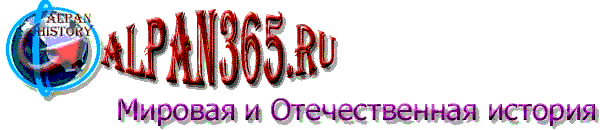I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
Глава VI
(Шихсаидов А.Р.)
Социально-экономическое и политическое положение Дагестана в V—X вв.
- § 1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА ДАГЕСТАНА V—X вв.
- § 2. ОБРАЗОВАНИЕ ХАЗАРСКОГО КАГАНАТА НА ТЕРРИТОРИИ ДАГЕСТАНА
- § 3. СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТРОЙ ДАГЕСТАНА В V—X вв.
- § 4. БОРЬБА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА ПРОТИВ ИРАНСКОЙ АГРЕССИИ В V—VII вв.
- § 5. БОРЬБА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА ПРОТИВ АРАБСКИХ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ
- § 6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА С НАРОДАМИ КАВКАЗА И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В VI—X вв.
§ 1. Политическая карта Дагестана V—X вв.
Территория Восточного Кавказа V—X вв. уже не представляется в виде единой многоплеменной Албании. Включение Кавказской Албании в состав Ирана в качестве отдельного наместничества с середины V в. и внутренние процессы, приведшие к дальнейшему усилению социального неравенства, сопровождались образованием на территории современного Дагестана ряда государственных объединений. Это Дербент, Лакз, Табасаран, Серир, Зирихгеран, Кайтаг (Хайдак), Гумик, «царство гуннов» и др. С VII в. положение этих государственных образований вырисовывается более четко, они. приобретают определенный территориальный и этнический облик. Общая тенденция их развития выражалась в стремлении к созданию более или менее крупных государственных единиц, в рамках которых и сложились в основном народности Дагестана.
Дербент
Район Дербента был в то время крупнейшим узловым пунктом, связывавшим Северный Кавказ с Закавказьем, со странами Ближнего Востока, участком важного экономического и стратегического значения («дарбенд»—персидское слово, букв.: «узел ворот»). Еще во второй половине I в. н. э. здесь уже существовали какие-то укрепления. Впоследствии, при иранских правителях, здесь был построен грандиозный комплекс оборонительных сооружений.
В истории Дербента V век может быть назван знаменательным. В это время Дербент выступает уже не только как укрепленный пункт, ограждавший Закавказье от набегов северных кочевых племен, но и как город, крупный политический и экономический центр на Восточном Кавказе, столица одного из наместничеств, вошедших в состав державы Сасанидов (после 461 г.).
Раннесредневековые армянские авторы называют этот район Чога или Чор (Джора). В середине V в. армянские авторы уже сообщают о правителе Джора и о Джорской стране. Соседствующие с Дербентом народы и поныне называют город именем, весьма сходным с Чор: у лакцев — Чуруль, у даргинцев —Чулли.
До нас дошли остатки одного из крупнейших в Дагестане городищ (к югу от Дербента), вокруг которого сохранились фрагменты стен с башнями и воротами. Городище было окружено глубоким рвом. Очевидно, оно и носило название Чога. Наместничество Чор в V — середине VI в. было одним из очагов христианства на Восточном Кавказе, здесь существовал епископат, однако в середине VI в. под натиском хазар епископат был перенесен в город Партав. Впоследствии, с ростом значения укреплений и самого города, получившего название Дербент, значение Чога падает и название полностью переносится на Дербент.
В VII—X вв. в связи с ростом каспийской торговли, экономическим процветанием земледельческих районов вокруг Дербента, а также усилением борьбы за овладение им город выдвигается на первый план. Теперь это крупнейший город Кавказа, резиденция иранских, затем арабских наместников, а впоследствии — местных правителей.
Владения Дербента были незначительны и простирались на несколько десятков километров к югу и юго-западу от города. Город существовал самостоятельно, но иногда подпадал под власть Ширвана, и тогда он становился своего рода периферийным центром. В третьей четверти IX в. здесь возникает династия Хашимидов (869—1066).
Табасаран
Первое упоминание о Табасаране относится к IV в. У армянского автора кроме сообщения о войске таваспоров находим сведения о «всем корпусе Таваспорана». Армянская хроника Моисея Хоренского (новый список) также знает «народ тапатараны».
Табасаран занимал территорию к северо-западу от Дербента, в бассейне р. Рубас. Население здесь было этнически разнородным, хотя преобладающее место занимали местные жители — табасаранцы. Колонии персидских, а затем арабских поселенцев занимали ряд населенных пунктов.
Правитель владения носил титул Табасаран-шах. Земля табасаранцев раньше других подвергалась иноземным нашествиям, ибо находилась в непосредственной близости к Дербенту. Это была богатая и густонаселенная область, со множеством укрепленных населенных пунктов. Наиболее древними из них являются Дарвак, Ерси, Дювек, Марата и др. Вследствие непосредственной близости к Дербенту Табасаран часто подпадал под политическую зависимость от дербентских феодальных правителей. Еще при сасанидских правителях отряды табасаранцев охраняли дербентские крепостные ворота, т. е. входили в число правительственных войск.
Территория нагорного Дагестана, в частности аварские земли, известна уже в сирийской хронике VI в. Захария Митиленского под названием Бат-Даду. Автор представляет жителей Бат-Даду как народ, живущий в горных районах, оседлый, с высокой земледельческой культурой. Бат-Даду скорее всего можно идентифицировать с именем дидойцев, известных еще по древним текстам. Как сообщают грузинские источники, дидойцы еще в V в. выступают совместное леками и дурдзуками на стороне грузинского царя. Однако Бат-Даду — понятие более широкое, чем собственно дидойские земли, — это нагорный Дагестан в целом, «горная страна», которую арабские авторы назвали Сериром.
Дагестанские хроники никогда не называли территорию нагорного Дагестана Сериром. Они знают Аварию. Что касается названия Серир, то оно связано с персидско-арабской географической традицией. Арабские авторы называют территорию нагорного Дагестана землей «владетеля трона», т. е. «Сахиб ас-серир», связывая это название с легендой о золотом троне последнего представителя Сасанидов, будто отправленном в Дагестан самим неудачливым правителем. Однако более вероятно, что Серир — то же самое, что и грузинское «мтиулети», т. е. «страна гор» или «страна горцев». Произошло это название не от арабского «серир» (трон), а от иранского корня sar, т. е. «гора».
Первоначально Серир занимал территорию, населенную аварцами. В X в. границы Серира заметно расширились, включив также иноэтнические элементы. Восточная граница его проходила в двух фарсахах от Семендера, бывшей столицы хазар, возможно, иногда она вплотную примыкала к побережью Каспийского моря. Ибн Хаукаль, арабский географ и путешественник X в., писал, что к Хазарскому морю прилегают «с запада — Арран, пределы Серира, земли хазар и часть пустыни Гузов». На севере и северо-западе Серир имел границу с аланами и хазарами. Границей между Сериром и Хазарией служила, по всей вероятности, река Сулак. Согласно источникам, правитель Серира жил в горах, а хазары— на равнине. Этим и нужно объяснить наличие системы оборонительных сооружений на правом берегу Сулака, близ станции Чирюрт, у древней трассы, соединявшей северокавказские степи с восточнокавказскими горами. Западная граница примыкала к грузинским землям.
Анонимный автор X в. также оставляет свидетельство о значительной территории Серира: «Серир. Это область с очень большими богатствами, горная и степная… Хандан — город, где живут военачальники… царя».
Столицей Серира был город, названный в арабском историко-географическом сочинении Хумрадж. Арабская графика позволяет уверенно утверждать, что Хумрадж — ошибочное- написание названия Хунзах, известной резиденции аварских феодальных правителей. Серир был крупнейшим политическим образованием в раннесредневековом Дагестане, сыгравшим важную роль в истории Восточного Кавказа.
Сравнительно большую роль играл Кайтаг, или Хайдак. У арабских географов и историков эта земля иногда называлась Хамзин. До недавнего времени считалось, что наряду с Хайдаком в Восточном Дагестане существовало «царство» Джидан. Однако, В. Ф. Минорский убедительно отождествил Джидан с Хайдаком. Еще в 1828 г. было обращено внимание на то обстоятельство, что Джидан — это ошибочное написание Хайдака,, что можно объяснить особенностями арабской графики. Поэтому при описании Хайдака мы уверенно можем использовать сведения о Хамзине и Джидане. Руководствуясь текстом арабского географа и историка X в. Масуди, можно приблизительно определить, что Хайдак занимает территорию непосредственно вблизи Дербента и что в X в. ряд даргинских земель (в частности, Уркарах) еще не входит в состав хай- дакских владений. Правитель Хайдака носит титул «салифан». С начала X в. Хайдак активно участвует в политической жизни Восточного Кавказа, неоднократно выступая на стороне Дербента в его столкновениях с правителями Ширвана. Первоначальной резиденцией хайдакских правителей был Калакорейш («крепость курейшитов»), древность которого засвидетельствована культовыми сооружениями — мечетью и надмогильными плитами, а также исторической традицией. Здесь обнаружена надмогильная плита, датируемая палеографически XI—XIII вв., с именем Хасбара сына Хиздана, «владельца Калакорейша». Только впоследствии, если верить преданию, центр Хайдака был перенесен в Уркарах, затем в Маджалис.
Лакз был расположен в Южном Дагестане и охватывал в основном территорию,, занимаемую сейчас народами лезгинской группы языков. Автор конца IX в. Балазури сообщает, что арабский полководец Мерван, после того как разбил хазар, поселил их между Самуром и Шабираном, «на равнине в области Лакз».Это говорит о том, что территория Лакза охватывала в Хв. также земли южнее Самура, называемые ныне Мушкур, т. е территорию бывшего Маската. Еще в сирийской хронике. VI в. Маскат был известен под названием Базгун. «Базгун,— сообщает хроника, — земля со (своим) языком, которая примыкает и простирается до Каспийских ворот и моря, находящихся в пределах гуннских».

Это удивительная «страна», известная далеко за пределами Дагестана как родина первоклассных оружейников и мастеров ювелирного дела. На каком бы языке ни передавалось название главного аула «страны» — нынешних Кубачей, — на персидском ли — «Зирихгеран», тюркских — «Кубачи», оно передается словом «панцироделатели». Соседи называют аул — Арбуки, Ургабука, Зарбак, Урги.
Сасанидский правитель застал здесь в VI в. уже оформившуюся государственную единицу с местным правителем, которого он и оставил во главе страны. Значит, возникновение Зирихгерана как политического объединения относится к более раннему времени.
Когда писали о Зирихгеране, имели в виду не только один населенный пункт, современные Кубачи. Ни один из авторов IX—X вв., писавших о Дагестане и его политических образованиях, не дает сведений, позволяющих отождествлять Зи- рихгеран только с одним каким-либо населенным пунктом. Напротив, они обязательно имели в виду «страну» Зирих- геран.
В источниках Зарихгеран фигурирует всегда в одном ряду с такими «царствами», как Лакз, Табасаран, Серир и т. д. Масуди прямо указывает на «царство» Зирихгеран: «За Гумиком по направлению к горам и Сериру следует царство Зирикеран…».
Объединение Гумик, или Туман, было расположено в самом центре горного Дагестана— там, где ныне живут лакцы. И по сей день эта древнейшая область напоминает о себе названием самого крупного населенного пункта лаков — Кумуха (ГIумук). Что касается названия Туман, то и поныне соседи (аварцы) называют лаков «туман» или «тумау». В самоназвании лаков («лак»), а также в терминологии соседей — «вулеги», «вулугуни», «вулекко», «лакбу» — сохранилась древняя грузинская (леки) и греко-латинская традиция, именовавшая всех горцев леги и гелы.
Среди дагестанских владений X в. начинают упоминать Карах, также Филан, Шандан. Владение Шандан (у Масуди— К.р.жд) лежало на запад от Хайдака, по направлению к Сериру. Ряд ученых предполагает, что Шандан — это территория, носившая впоследствии название Акуша-Дарго. Правитель Шандана носил титул марзубана, т. е. хранителя границы. Карах — современный Уркарах. В тексте «Истории Ширвана и Дербенда» упоминаются также селения Чишли и Дигбаша, что близ Уркараха. В X—-XI вв. Уркарах играет активную роль в политической жизни Дагестана. Точная идентификация других политических объединений на данном этапе затруднительна из-за неясности источников.
В середине V в. государство гуннов, раздираемое внутренними противоречиями, рухнуло. С его падением отдельные племенные союзы выделились в самостоятельные единицы, с самостоятельным политическим управлением. Однако влияние гуннов было настолько велико, что и после распада государства новые политические образования иногда получали у соседей название гуннских государств.
Так случилось и на территории Дагестана, на равнине к северу от Сулака и на узкой прибрежной полосе. Здесь в VI в. образовалось государство, получившее название «царство гуннов», хотя основу его составляло местное население. Гунны, пришедшие в IV в., подчинили местное население, но смешались с ним, сохранив свое имя в названии государства. В сирийской хронике VI в. к западу от Каспийских ворот названо тринадцать племен, многие из которых входили в «царство гуннов».
Союз племен в Северном Дагестане только стал оформляться в стабильную политическую силу, ибо явно наметился переход кочевых племен к оседлой, вернее к полуоседлой жизни, к земледельческо-скотоводческому хозяйству. Это является свидетельством того, что пришлые кочевые гуннские племена подверглись огромному воздействию со стороны оседлого земледельческого населения, жившего как в горных, так и в северных равнинных районах Дагестана.
По сообщению «Армянской географии» (VII в.), государство гуннов расположено к северу от Дербента, и в нем находились города Варачан, Чунгарс, М.с.н.д.р (Семендер).
Сообщение о городах исключительно важно. Оно лишний раз подтверждает огромное влияние земледельческого быта дагестанцев на кочевые гуннские племена, лишь недавно не имевшие представления ни о земледелии, ни об оседлом быте.
Столица «царства гуннов»—Варачан, «великолепный город», как писал албанский историк VII в. Моисей Каганкатваци. По мнению дагестанских археологов, Варачан был расположен там, где в настоящее время находятся развалины раннесредневекового города, в местности Урцеки.
«Царство гуннов» превратилось впоследствии в составную часть Хазарского каганата.
В середине VII в. в степях Северо-Восточного Кавказа сложилось Хазарское государство, сыгравшее значительную роль в политической и экономической жизни Кавказа, Азово-Каспийского междуморья, Поволжья.
Первые упоминания о хазарах имеются в армянских исторических сочинениях и отнесены к концу II — началу III в.. Однако сообщения эти являются позднейшими вставками в древние тексты. С VI в. сведения о хазарах становятся определеннее.
Хазары не сразу заняли господствующее положение в государстве. Еще во второй половине V в. степные просторы между Азовским и Каспийским морями, включая прибрежную полосу Каспия вплоть до Дербента, были заняты воинственным кочевым племенем савиров. Этнически не отличаясь существенным образом от гуннов, они очень быстро смешались с остатками последних в Восточной Европе и по большей части поглотили их. Поэтому раннесредневековые авторы часто не делают различия между гуннами и савирами.
В состав этого непрочного военно-политического гунно-савирского объединения входили и хазары, которые заняли впоследствии, в VI в., господствующее положение в Северном Дагестане, включив тем самым савир в число подвластного населения.
Во второй половине VI в. хазары, как и многие народы Северного Кавказа, попали в подчинение Тюркскому каганату (тюркюты), сложившемуся в середине VI в. в Центральной Азии. Тюркский каганат был могущественным объединением, принимавшим активное участие в политической и военной жизни тех времен и воевавшим с кочевыми племенами. Дружбы с ним добивались Иран и Византия.
Тюркский каганат сыграл значительную роль в истории хазар: он способствовал консолидации хазар и объединению их с родственными племенами. Хазары слились с тюркютами в одно военно-политическое объединение, а также участвовали в грабительских походах в Закавказье.
Распад Тюркского каганата положил начало самостоятельному существованию Хазарского каганата. Сложившись на развалинах военно-политического объединения савир и Тюркского каганата в самостоятельное государство, Хазарский каганат включил в себя не только племена, жившие на их территории (хазары, савиры, барсилы, беленджер, группы болгар, тюркюты и т. д.), но также унаследовал от них систему управления, военную организацию, государственные традиции.
Существует легенда об образовании Хазарского каганата. В хронике Михаила Сирийского (1126—1199) сообщается о том, что в конце VI в. из внутренней Скифии вышли три брата, которые дошли вместе до р. Танаис. Отсюда один из братьев — Булгар — отправился на запад и получил от римского императора земли близ Дуная. Племя его стало называться булгарами. «Два других брата пришли в страну алан, называемую Берсилия, в которой римлянами были построены города Каспия, называвшиеся вратами Тичауе… Когда над страной (Берсилией) стал господствовать чужой народ, они были названы хазарами по имени того старшего брата, которого имя было Хазарик. Это был сильный и широко распространенный народ».
В этой легенде интересны два обстоятельства. Во-первых, территория, занятая хазарами, Берсилия, локализуется в Северном Дагестане. По мнению известного немецкого востоковеда Маркварта, территория Берсилии простиралась на юге до Дербента, а на севере — до равнины при Сулаке и Тереке. Во-вторых, легенда сравнительно точно определяет время самостоятельного существования Хазарского каганата.
К 70-м годам VII в. хазары обеспечили себе политическое господство на Северном Кавказе. Хазарской власти подчинилось не только Азовско-Каспийское междуморье, но также Северное Причерноморье.
Примерно к IX в. границы Хазарского каганата выглядели следующим образом: южная граница проходила по р. Сулак и по линии дербентских укреплений; на западе каганат включал Керченский пролив и большую часть Крыма; левый берег Дона, где в 835 г. был построен Саркел, составлял границу с мадьярами, кочевавшими между Доном и Днепром. На востоке, на Яике, соседями хазар были печенеги, за которыми располагались огузы.
Столицей Хазарского каганата был город Семендер. Это был крупный город, выросший на торговой трассе, соединявшей Поволжье и юго-восточные степи с Закавказьем, Ближним Востоком. Первое упоминание о Семендере относится к VII в. — это «гуннский» город М. с. н.д. р.
Где находился древний Семендер, точно не установлено. Многие ученые склонны считать, что Семендер и Тарки — это различные названия одного и того же города. Семендер оставался столицей хазар до 30-х годов VIII в., когда под натиском арабов хазарский правитель вынужден был перенести столицу на север, в город Итиль на Волге. Однако значения своего Семендер не утратил. Он оставался торговым центром, значение которого росло вместе с ростом каспийской торговли. Во второй половине X в. под ударами русов Семендер был разрушен и долгое время не восстанавливался.
Те взаимоотношения между различными слоями населения, та социальная дифференциация, которая наблюдается у «гуннских» племен, сохранились после образования Хазарского каганата не только у «гуннов», но и у других подвластных хазарам племен.
У племен, вошедших в состав Хазарии, переход к оседлости и земледелию в VIII в. был уже совершившимся фактом. В X в. источники отмечают уже большее число городов в Хазарии: Хамидж, Баланджар, Байда, Савгар, Х.т.л.г, Л.к.н, Сур, Матмада — города «с крепкими стенами, богатые».
Основную статью дохода и обогащения хазарской знати составляли продукты животноводства, торговля пленными и торговая пошлина. Торговая пошлина взималась со всех купцов, проходивших Итиль и Каспий. Выгодное географическое положение и все возрастающие торговые операции на Волге и Каспийском море создавали благоприятные условия для усиления хазарской знати.
Немаловажную роль в этом играли также на заре каганата нападения на соседние области, особенно на плодородные земли Закавказья. 662, 664, 684, 730, 762, 764 годы — это далеко не полный перечень лет, когда богатые и цветущие закавказские города и села утопали в крови, не будучи в состоянии спастись от урагана хазарских нашествий.
Конечно, цель хазарских походов не сводилась только к разорению и уничтожению. Грабеж богатств, скота, захват людей, установление дани, политическое господство — вопросы эти стали в центре военных и внешнеполитических акций, феодализирующейся хазарской знати, хазарских правителей.
Взимание дани, натуральных поставок с покоренных земель практиковалось в каганате повсеместно. Платили ее в VII в. и албанские правители. Платили все земли, подвластные хазарам.
Социальное расслоение в хазарском обществе выражено очень ярко. Номинальным главой государства был хакан, личность которого была окружена исключительным почетом и ореолом святости. Реальная власть сосредоточивалась в руках царя (он же ища, бак, малик, каган-бек и т. д.). Он управлял государством, предводительствовал войском, вел внешние дела, определял наказания. Среди сановников, близких к хакану, называют кендеркагана и чаушиара. Интересы привилегированной верхушки защищала регулярная армия, освобожденная от всяких податей.
Большие сдвиги в экономической и социальной жизни толкали правящую верхушку хазарского общества к принятию монотеистической религии в целях идеологического оправдания социального неравенства. Началась «борьба за религию», которая в идеологической сфере отражала изменения в социально-экономической структуре каганата.
Наиболее распространены в Хазарии были домонотеистические религиозные верования и культы. Однако к концу VIII в. хакан и правящая верхушка принимают иудаизм, а в середине X в. — ислам. Хотя иудаизм был возведен в ранг государственной религии, иудеи даже в X в. составляли лишь небольшую часть населения каганата. Доминирующее положение среди монотеистических религий принадлежало исламу и христианству. Христианское и мусульманское население наряду с иудейским зафиксировано в середине X в. в бывшей столице Хазарии — Семендере.
Таким образом, в каганате прослеживается сосуществование трех монотеистических религий и первобытных религиозных представлений, что объясняется не только «веротерпимостью» хазар, но и сложившейся обстановкой, когда культурные, политические, торговые связи были установлены со странами, где господствовали монотеистические религии.
Середина и конец I тысячелетия н. э. — эпоха зарождения и развития феодальных производственных отношений — важнейший этап в истории дагестанских народов.
Огромные сдвиги в области социальных отношений на базе дальнейшего роста производительных сил; развитие ремесла, появление раннесредневековых городов и крупных населенных пунктов; усиление классовой борьбы; упрочение связей с соседями, с Юго-Восточной Европой и Ближним Востоком; складывание устойчивых этнических массивов — вот далеко не полный перечень факторов, характеризующих экономическую и социальную жизнь раннесредневекового Дагестана. Политическая история отмечена борьбой с многочисленными внешними завоевателями, не прекращавшейся с раннего средневековья до позднейших его этапов.
Экономическое развитие Дагестана в V—X вв. характеризуется дальнейшими успехами в земледелии и скотоводстве. В области земледелия это выразилось в четкой отраслевой специализации—полеводстве, садоводстве, виноградарстве. В связи с широким использованием железных орудий расширяется площадь, занятая под основными полевыми культурами — пшеницей, ячменем, овсом, просом. Усовершенствуются орудия и культура земледельческого труда.
На поселениях V—X вв. обнаружено большое число каменных зернотерок, железных серпов и других орудий земледельческого быта, сосудов для хранения зерна, свидетельствующих о месте земледелия в хозяйственной жизни дагестанцев. Исключительное значение земледелия в процессе хозяйственной деятельности подчеркнуто в характере дани, которой были обложены раннефеодальные владения арабскими завоевателями в VIII в.: Серир давал 100 тыс. мер зерна, Зирихгеран — 10 тыс., Кайтаг — 30 тыс., Гумик — 20 тыс.
Арабские источники дают ценные данные о развитии земледелия в Дагестане, особенно на плоскости. В районе Дербента «было много поместий и возделанных земель». Здесь же имелись обширные посевы зерновых. Процветало мареноводство, а марена, которую поставляли близлежащие Дербенту селения, была известна далеко за пределами Кавказа, вплоть до Индии. Широкое распространение получило искусственное орошение полей. В конце VIII в. здесь был прорыт канал из р. Рубас. Росло число садов, пашен, огородов. Имеются сведения о строительстве мельниц.
В горных же районах широкое распространение получило террасное земледелие. Террасовая культура была выработана столетиями в итоге упорного труда по обработке земли и отражала многовековой агротехнический опыт горцев в области земледелия.
Наряду с зерновыми культурами широко развивалось садоводство и виноградарство. В Семендере, по сведениям арабского географа и астронома ал-Балхи (ок. 850—934), было много садов, несколько тысяч виноградных кустов, причем сады и виноградники простирались до границ Серира.
С усилением роли полеводства связано также увеличение количества крупного (плоскость) и мелкого (высокогорные районы) рогатого скота. В X в. бараны уже входят в число товаров, вывозимых из Серира в другие страны через Дербент. Разведение мелкого рогатого скота во все возрастающих масштабах означало освоение новых пастбищных земель.
Для V—X вв характерна также большая населенность Дагестана. Об этом убедительно свидетельствуют археологические данные. Так, на участке р. Сулак протяжением в 15 км обнаружено 15 раннесредневековых поселений (VI—X вв.), многие из которых функционировали продолжительное время. Во многих районах Дагестана найдены многочисленные раннесредневековые поселения, расположенные вокруг современных аулов, а культурный слой на них достигает в ряде случаев мощности в 2 м. Арабские авторы особо подчеркивали густонаселенность Дагестана. По их сообщениям, у «царя» Серира было 12 тыс. селений. Это были мелкие поселения, объединявшиеся впоследствии в крупные населенные пункты.
Особенный подъем наблюдается в ремесле, в частности в его ведущей отрасли — металлообработке, а также в гончарном производстве. В V— X вв. достигают высокого уровня различные виды ремесел — гончарного, кузнечного, ювелирного, литейного, строительного дела. В области гончарного производства характерно массовое изготовление изделий на гончарном круге. Была известна техника поливной керамики.
Широкий размах приняло ткачество, развивавшееся не только в интересах внутренней, но и внешней торговли. Полотняные одежды из Дербента и других дагестанских центров часто поступали в Закавказье, так как ни в Армении, ни в Азербайджане, ни в Арране они не производились.

Ремесленное производство в городах находилось на такой стадии развития, когда ремесленники из экономических и политических соображений стали создавать в ряде случаев корпорации по роду ремесла, наподобие цеховых организаций. Так, в X в. в Дербенте существовала организация дубильщиков во главе с раисом.
Место и роль ремесла, огромное значение обработки металла в хозяйственной жизни Дагестана отразились на прочно утвердившемся в средневековье культе металла у всех кавказских народов. Железу приписывается магическая сила, оно охраняет от болезней, отводит дурной глаз, приносит счастье, помогает при рождении детей. Поэтому и окружено особым ореолом имя кузнеца в сказках, легендах. Даже адаты вынуждены учесть особое положение мастера-кузнеца. Кузнецы, как и лица, занимавшие общественные должности, не допускались к присяге. Во всех дагестанских языках имеются местные названия слова «кузнец», причем оно связано или с железом, или же с кузницей.
Особoe значение кузнечного ремесла подчеркивается тем, что ряд собственных имен связан с металлом — Къебед («кузнец»), Похьут1а («медник»), Чаран («сталь»), Меседу («золото»), Пулад («литая сталь»).
О высоком уровне ремесленного производства дает представление материал раннесредневековых могильников и поселений (Верхний Чирюрт, Верхний Каранай, Агачкала, Хлют, Галла, Бежта, Дуранги, Куяда и др.). Значительно возрастает ассортимент украшений и предметов туалета, оружия, керамических изделий.
Для VIII—X вв. характерно широкое распространение предметов вооружения — железных сабель, копий, наконечников стрел, топоров.
Успехи металлообработки выразились в уже установившейся отраслевой специализации технического производства—кузнечно-литейное и ювелирное дело выступают как отделившиеся друг от друга области ремесла. Анализ погребального инвентаря — украшений (височные привески, бронзовые браслеты, серьги, шейные гривны, бусы и т. д.), принадлежностей туалета (фибулы, головные булавки, зеркала, поясные пряжки), предметов вооружения (наконечники стрел, наконечники копий, топоры, кинжалы), орудий труда (железные ножи, шилья, пряслица и т. д.) — показывает, что все больший вес приобретает ремесло, отделенное от сельского хозяйства, хотя господствующим остается производство для собственных нужд.
Изучение инвентаря археологических памятников нагорного Дагестана V—X вв. показало, что он отличается значительной однородностью и характеризуется распространением определенных видов изделий. Это свидетельствует не только

о местном характере металлообработки и керамического производства, но и о наличии отдельных очагов ремесленного производства. Дальнейшее развитие производства нашло свое выражение в формировании локальных вариантов раннесредневековой культуры Дагестана — предгорной, горной и северной (присулакской).
Средоточием ремесла были города, но наряду с ними существовал ряд сравнительно мелких ремесленных центров,, имевших в основном местное значение. Центры эти были связаны с близлежащими селами, удовлетворяя все возрастающий спрос на сельскохозяйственные орудия, предметы домашнего обихода, украшения. Агачкала, Гапшима, Галла, Бежта, Хлют, Куяда, Бавтугай, Верхнее Казанище, Большой Гоцатль и многие другие населенные пункты выступали средоточием ремесла, хотя и связанного с сельским хозяйством.
Появление раннесредневековых городов, центров торговли, ремесла, экономической, культурной и политической жизни — характерная особенность раннесредневекового Дагестана. Здесь в первую очередь можно назвать Дербент, Семендер, Варачан (Урцеки), Зирихгеран (Кубачи).
Дербент — древнейший город Кавказа, не уступавший в IX—X вв. по величине таким крупным в то время городам,, как Тифлис и Бердаа. На кавказском и ближневосточном рынке были широко известны товары из Дербента, в первую очередь полотняные одежды, хлопчатобумажные ткани, марена, шафран. Дербент был также крупным морским портом. Для судов, шедших с Волги или же из прикаспийских стран, здесь имелся рейд, причем между рейдом и морем были выстроены две параллельные стены, а вход в порт был закрыт цепью. Суда могли войти в порт и выйти в открытое море- только с разрешения городских властей.
Известным торгово-ремесленным центром на Восточном Кавказе был Семендер. Восточные авторы единодушно отмечали богатство города, его многочисленные сады и виноградники, наличие там рынков и торговых людей. «Семендер — город на берегу моря, богатый, есть базары и купцы», — писал персидский аноним X в. Здесь изготовляли шерстяные ткани, а жители располагали значительными суммами денег, а также рабами.
В прибрежном Дагестане процветал (до середины VIII в.) город Варачан, отождествляемый с городищем, ныне называемым Урцеки. Городище было расположено на небольшой возвышенности, развалины его занимают площадь около- 100 га. На вершине холма находилась цитадель, окруженная стеной с 11 башнями, служившая резиденцией местного правителя и его приближенных. За стенами цитадели были постройки и усадьбы простых горожан. Урцекинская долина там,

где она лишена естественных преград, была защищена оборонительными сооружениями в виде широких (до 4—6 м в основании) и длинных (0,5—1 км) крепостных стен. Ближние подступы к городу защищались тремя стенами. К городу вело несколько широких, хорошо охраняемых дорог.
Город был не только крупным административным, но и ремесленным центром. Археологические раскопки показали, что здесь было развито кузнечное и керамическое производство и ювелирное дело. Мастера изготовляли разнообразную посуду, хозяйственно-бытовой инвентарь, предметы военного снаряжения и туалета. Они в совершенстве владели такими техническими приемами, как литье, ковка, чеканка, тиснение, волочение, инкрустация.
К числу раннесредневековых городов принадлежит крупный ремесленный центр Зирихгеран (Кубачи). Его жители были известны в Дагестане и за его пределами как мастера кольчуг, стремян, удил, мечей и других ремесленных изделий. Уровень развития ремесла здесь был настолько высок, что уже к X в. можно говорить об окончательном отделении ремесла от земледелия.
Успехи земледелия, скотоводства и ремесла неразрывно были связаны с успехами торговли. Отдельные города и населенные пункты были связаны между собой, а процесс отделения ремесла от земледелия и возникновение очагов ремесленного производства стимулировали дальнейшее развитие торгового обмена.
В международной торговле Дагестан также принимал участие. Правда, в V—VI вв. территория Дагестана была в стороне от главных международных трасс, в частности от знаменитого «шелкового пути», связывавшего Китай с ближневосточными странами. Набеги кочевых племен, связанные с «великим переселением народов», также неблагоприятно сказывались на развитии торговых связей. Тем не менее археологический материал (из могильников близ Гапшимы, Верхнего Чир-юрта и других пунктов) указывает на торговые и культурные связи Дагестана со странами Ближнего Востока, Северного Кавказа и даже с Крымом.
Заметные сдвиги в развитии торговых связей наметились, однако, в VII—VIII вв., когда важные торговые пути, соединявшие страны Ближнего Востока с Юго-Восточной Европой, Нижним Поволжьем и Северным Кавказом, переместились в бассейн Каспийского моря. Это было время расцвета «арабской» торговли. В VIII в. эта торговля настолько расширилась, в частности в Закавказье, что почти во всех местных монетных кладах преобладает арабская монета. В торговлю втягиваются не только приморские, но и внутренние районы Дагестана. По сообщению арабских путешественников IX-—X вв., Дербент служил своего рода складочным пунктом для товаров Хазарии, Серира, Кайтага, Табасарана и других областей, поставлявших свои ремесленные изделия и продукты животноводства. Подобную же роль, хотя и в меньшей мере, играл Семендер.
Расширение торговли в свою очередь приводит к значительному оживлению хозяйственной жизни Дагестана, в частности к дальнейшему развитию ремесленного производства и скотоводства. Процесс этот был характерен для всего «му- • сульманского» Востока, когда широкое развитие товарно- денежных отношений в раннем средневековье привело здесь к исключительной заинтересованности земледелия в торговых операциях. Надо отметить, что торговля оставалась меновой, несмотря на распространение денежной единицы.
У средневековых авторов, писавших о путях, проходивших по западному побережью Каспия или по Каспийскому

пути, обязательно отмечаются Дербент и Семендер, что свидетельствует об активном участии Дагестана в международной торговле.
Судя по описаниям путешественников и археологическим данным, Дагестан был связан сухопутным или морским торговыми путями с Северным Кавказом, Закавказьем, Доном, Булгаром, Хорезмом, Византией, Ближним Востоком.
Развитие производительных сил неумолимо вело к ломке старых производственных от- – ношений и возникновению новых, стимулирующих дальнейшее развитие хозяйства.
Становление феодальных отношений было неизбежным
Разложение родовой общины, начавшееся в эпоху бронзы, привело к образованию территориальной, соседской общины, которая господствовала в Дагестане уже в начале нашей эры.
Археологический и этнографический материал свидетельствует о том, что основу общественной структуры в Дагестане в V—X вв. составляла малая семья. Поэтому однокамерные жилища, принадлежащие патриархальной семье, уступают место многокамерным. Процесс этот ранее всего произошел в районах террасного (и вообще горного) земледелия, где в настоящее время трудно найти следы существования большой семьи. Большая семья уступила место малой, но в ряде областей еще долгое время продолжала существовать бок о бок с последней.
Отмеченный выше процесс развития скотоводства также толкал к узурпации прав на земельные участки, в частности на пастбищные земли. Постепенно выделяются представители общинной верхушки, владеющие значительным поголовьем скота и фактически установившие собственность на значительную часть пастбищных участков.
Рост производительных сил, дальнейшее совершенствование орудий труда, расширение торговли и товарообмена сопровождались дальнейшей имущественной и социальной дифференциацией.
Археологические материалы из самых различных районов Дагестана ярко документируют процесс далеко зашедшей: имущественной дифференциации. В Агачкалинском могильнике (VII—X вв.) это отразилось в особенностях погребального обряда: встречаются различные формы погребальных сооружений — каменные склепы и грунтовые могилы вокруг них, причем иногда последние разрушались в угоду склепам. Резко выраженную картину имущественного неравенства раскрывает Бежтинский могильник (VIII—X вв.), где наряду с исключительно богатыми погребениями имеются и бедные погребения с незначительным инвентарем или же вовсе без него.
К IV—V вв. относятся первые сообщения о «царях», подтверждающие далеко зашедший процесс социального неравенства. Армянские авторы сообщают об «одиннадцати царях» горцев, выступавших против сасанидского Ирана, и о Шергире, «царе леков». К VI в. подобные сообщения о «царях» на территории Дагестана становятся более подробными. Арабский историк IX в. Балазури говорит, напримео, о правителях Серира, Филана, Лакза, Маската, Лирана, Ширвана, Зирихгерана и других «царств», утвержденных в своих владениях сасанидским царем Хосровом Ануширваном (531—579). Интересно то, что Ануширван застал в Дагестан^ в VI в. местных правителей, власть которых над местным населением он сохранил.
Указанные выше изменения в политической карте Восточного Кавказа V—X вв., т. е. образование ряда мелких «царств», и явились результатом огромных сдвигов в экономической и социальной жизни общества.
Резкая социальная дифференциация, наличие феодализирующейся верхушки прослеживаются также в сословной иерархии, в выделении определенного привилегированного сословия, верхушки приближенного к «царю» слоя: «в земле Лакз (имеется слой) свободных, известных под именем ал-хамашира, а над ними (т. е. управляют ими) — малики, а ниже — ал-мишак, а затем пахари (акара) и слуги или ремесленники (муххан)», — сообщает арабский ученый-энциклопедист Йакут (ок. 1179—1229), использовав сведения X в.
«Свободные» — это независимые крестьяне, в противоположность зависимому податному сословию крестьянства — «ал-мишак». В Армении и Грузии термин «мшак», или «му- шак», был уже известен и обозначал (в частности, в Армении) работника частновладельческого хозяйства, кем бы он ни был — свободным ли общинником, издольщиком или рабом. Слово «малик» обычно переводится «царь», но в данном контексте предпочтительнее употреблять термин «правитель» или «владетель ряда населенных пунктов».
Интересен также встречающийся в тексте термин «акара». Он сходен с термином из древнеармянских и древнегрузинских текстов в форме «агарак» или «агара», означающим тип земельных владений, в частности — частновладельческую землю, частновладельческое хозяйство, усадьбу с пахотными полями, имения, поместья, а позже поселения. В основе своей «агарак» восходит к шумеро-аккадскому «агар» («акар») —в значении «посев, пахотное поле, луг».
Однако в Дагестане, как и во многих странах Востока, под этим термином следует понимать издольщиков, арендовавших земли у земельной аристократии или у представителей арабской администрации.
Таким образом, социальное расслоение и общественное разделение труда подчеркивается автором четко: правящая верхушка («малики»); свободное население; податное сословие крестьян; акара — разорившиеся общинники, имевшие участки на правах частного владения; ремесленники, выделившиеся из общей массы сельского земледельческого населения.
Социальная дифференциация наблюдается и в других раннефеодальных владениях Дагестана. Правитель Серира также обладал огромной властью. Привилегированную верхушку общества составляли прежде всего сипехсалары (военачальники). Правитель Серира имел, по словам Гардизи (персидского историка XI в.), два трона — золотой и серебряный, причем на золотом сидел он сам, а на серебряном — его придворные. Здесь уже имеется целая система органов государственной власти и тех социальных сил, которые служили опорой государства. Опираясь на дружину, на феодальную верхушку, правитель устанавливает личную, внеэкономическую зависимость населения, жестоко эксплуатирует чужой труд.
Наиболее четко сословное деление прослеживается в Дербенте (Баб ал-абваб арабских источников). Как уже указывалось, во второй половине IX в. городом управляли арабские правители. Впоследствии (с 869 г.) управлять городом стали представители династии Хашимидов (амиры), власть которых была наследственной. Тем не менее власть хашимидских амиров не была неограниченной. Феодальная верхушка, окружившая амира, его политические советники, начальники поиск, городская администрация, сборщики налогов, разбогатевшие в многочисленных войнах «за веру», на эксплуатации городского и соседнего сельского населения, уже представляет внушительную силу, способную противопоставить себя дербентскому правителю и его «газиям» («воителям за. веру») и гулямам (страже или телохранителям).
Центробежные тенденции феодальной верхушки с каждым годом возрастали, и правитель не мог с этим не считаться. Так, первый амир Дербента (Баб ал-абваба) Хашим бен Сурака решал дела, «только посоветовавшись с мудрыми стариками («укала») и начальниками («раисами»),
Раисы, выступавшие в качестве посредников между правительственной администрацией и местным населением, занимали особое положение. В Арране и Ширване они выступили главами городских гильдий. В Дербенте был известен «раис дубильщиков». Раисы имели отряды собственных гулямов. В более тесной, чем раисы, связи с амирами была знать пограничных областей, или «айн ас-суфуф». В последних можно было усмотреть среднее сословие, именитых купцов из торговых рядов. Они выступали на стороне амира, так как интересы торговли требовали установления сильной власти.
Вся правящая верхушка (амир, раисы, аристократы), купцы и торговцы обогащались на торговле, средоточием которой в течение столетий был Дербент.
Правящая верхушка дагестанских раннефеодальных владений резко противопоставляет себя основной массе непосредственных производителей материальных благ. Они окончательно отделились от своих соплеменников, создав своеобразную недоступную касту. Правитель Серира вместе с дружиной обосновался в крепости. Дербентский правитель жил в цитадели, а раисы, окружавшие его, построили «срединную стену», которая должна была слить их с цитаделью и отделить от «черни». Ремесленный люд, городская чернь жили в рабатах — предместьях города. Раскопки Уриеков и средневекового города Аркаса выявили ту же картину — сильно укрепленная цитадель и неукрепленные посады вокруг нее. Феодальные замки-укрепления были рассеяны по всему раннесредневековому Дагестану. Они были центрами политической и экономической жизни, местопребыванием феодальных правителей и феодальной знати.
Феодальные правители нередко сплачивались в борьбе против соседей или же зависимого крестьянского сословия, поддерживали контакты, устанавливали родственные связи.
Политика правителя Серира здесь наиболее показательна и предусмотрительна: он в союзе с аланами; его дочь — жена арабского наместника Армении. Правитель Дербента также женат на дочери «царя» Серира.
Исключительно трудно на базе ныне доступных источников проследить хотя бы в общих чертах процесс установления феодальной собственности на основное средство производства— землю. Только самые общие рассуждения о компетенциях местных правителей (сбор дани, сбор войска, получение земельных участков) позволяют предположить, что дагестанские раннефеодальные государства были верховными собственниками земли. Феодальная верхушка владела «поместьями» (дийа). «Поместья» упоминаются на территории Лакза, в Табасаране, Серире.
Активную роль в процессе феодализации дагестанских обществ играла политика внешних завоевателей, в частности персидских и арабских. Персидские цари нередко создавали на окраинах государства колонии из иранских переселенцев, наделяя им земельные участки. Охрана границ поручалась своим войскам, а также отрядам из завоеванных стран. Они также получали земельные участки за несение пограничной службы. В Дагестане, в районе Дербента, наделы на правах условного держания имели персидский гарнизон и табасаранские наемники, охранявшие дербентские укрепления.
Арабские завоевания в еще большей степени способствовали укреплению власти местных феодальных правителей в Дагестане.
Как известно, земельная политика арабов в завоеванных странах привела к перераспределению земельного фонда. Большинство завоеванных земель не распылялось и становилось государственной собственностью. Часть же земель оставалась в собственности отдельных лиц. Последние назывались мульками. Таким образом, государственная феодальная собственность на землю и воду и земельная собственность отдельных феодалов в халифате существовали одновременно, но господствующей формой была государственная. Институт мулька предполагал полную земельную собственность, права собственника распоряжаться земельным участком. В этом смысле как форма землевладения он соответствовал западноевропейскому аллоду. Дальнейшее развитие социальных отношений в халифате привело к возникновению новой, условной формы феодальной собственности, икта (арабск. «надел»), означавшей первоначально временное и пожизненное пожалование земель под условием несения вассальной службы. Коллективный феодал — государство отдавало земельные участки военным лицам за несение службы с правом взимания феодальной ренты, а затем с правом распоряжаться землей. Икта как форма феодального землевладения соответствовала на определенном этапе западноевропейскому бенефицию.
Сведения об аграрной политике арабов в Дагестане говорят о том, что практика раздачи захваченных земель и здесь получила широкое распространение. В начале VIII в. были наделены землей те воины, которые обосновались в новых пунктах близ Баб ал-абваба — Камахе, ал-Мухамма- дие, Баб-ваке.
Феодально-зависимые отношения складывались при активном вмешательстве правительственной власти. В середине IX в. халиф Мутаваккил пожаловал правителю Армении, Азербайджана и Аррана Мухаммеду бен Халилу в качестве лена город Баб ал-абваб с зависящими от него землями. Ширваншах Хайсам (вторая половина IX в.) перевел несколько деревень на «благочестивые дела» (вакуф).
Таким образом, в раннесредневековом Дагестане имеются следующие формы земельной собственности: государственные земли, земли крупных и мелких феодалов (дпйа, икта), вакуфные земли, частновладельческие земли (мюльки) и общинные земли.
Все приведенные выше сведения свидетельствуют о том, что в течение V—X вв. в Дагестане утвердились раннефеодальные отношения. Класс феодалов и класс непосредственных производителей материальных благ противостоят друг другу. Раннефеодальные отношения, сложившиеся в Дагестане, носят, однако, специфический характер, объясняемый рядом социально-экономических и политических обстоятельств.
Прежде всего следует отметить, что раннефеодальные отношения в Дагестане носили особенно устойчивый характер. Сыграв положительную роль в процессе установления частной собственности, террасное земледелие превратилось впоследствии в силу, способствовавшую консервации производственных отношений. С этим фактом тесно связана и роль сельской общины.
Устойчивость сельской общины наложила особый отпечаток на процесс развития феодализма, надолго сохранив патриархально-феодальный характер отношений и относительную свободу рядовых общинников. Поэтому процессе дальнейшей феодализации, т. е. переход Дагестана в стадию развитого феодализма,затянулся.
Это обстоятельство, а также рост значения скотоводства привели еще к одной характерной особенности развития социальных отношений в Дагестане. Если в равнинных частях феодальные отношения укреплялись за счет захвата пахотных земель, то в горных районах преимущественно устанавливалась собственность на пастбищные земли, а пахотные участки, как правило, оставались в собственности отдельных семей.
Ни на равнине, ни в горных районах феодалы не вели собственного хозяйства, и потому сдача земли в аренду получила особое распространение.
Дальнейший процесс феодализации в Дагестане шел в условиях ожесточенной классовой борьбы. Крестьянские массы упорно отстаивали право сельских общин. Городское население защищало свои «вольности».
Особенно бурно эта классовая борьба протекала в Дербенте и в прилегающих землях, подчиненных городу. Налоговый гнет здесь был наиболее невыносимым. При халифе Мансуре (754—775) правитель Дербента Йазид ас-Сулами обложил нефтеносные источники и солеварни Ширвана налогом, назначив надзирателя над ними. Ставленник Харуна ар- Рашида в Дербенте собирал подати с окрестных жителей. В 898 г. Дербент получил фирман от халифа с правом собирать доходы с нефтяных источников и соляных промыслов. Доходы эти собирались ежегодно и шли большей частью на содержание воинов. Соседние земли также подчинялись городу, и доходы, поступавшие из этих селений, составляли значительную долю богатств феодальной верхушки. Нередко правители города предпринимали попытки обложить налогами часть населения, свободного от податей.
Недовольство горожан, а также крестьян в соседних районах все больше росло. Еще в 777 г. многие жители вынуждены были оставить город из-за притеснений правителя. А в середине X в., как сообщает дагестанская историческая хроника «Дербенд-наме», когда «в Дербенте появились беззаконие, смуты, интриги», жители «соседних земель» восстали против Дербента, но восстание было жестоко подавлено.
В 944 г. восстали против амира жители Дербента. Тот был вынужден бежать. Жители города пригласили ширван- шаха, который вскоре также был изгнан. Раисам удалось, опираясь на горожан, захватить власть в свои руки, а правитель города был выведен из цитадели и заключен в резиденции в нижнем городе. Была начата работа по разрушению средней (поперечной) стены, отделявшей город от цитадели — вернее, предназначенной защитить цитадель от горожан и ремесленников, и это было, по-видимому, уступкой беспокойной «черни».
Эти бурные события свидетельствуют о том, что политическая жизнь Дербента в X в. полностью находилась в руках раисов. Им удалось использовать выступления горожан и жителей окрестных селений. Правитель города был марионеткой в руках раисов, и они приглашали в Дербент то одного, то другого правителя соседних областей (Ширвана, Та- басарана, Лакза), смещали и вновь приглашали их по своему усмотрению. Будучи противниками центральной власти, они старались организовать все центробежные силы и в этой борьбе использовали естественное недовольство городского и земледельческого населения.

Классовая борьба в этот период происходила не только в Дербенте и близлежащих населенных пунктах. К сожалению, за отсутствием источников мы не можем говорить о классовой борьбе более определенно. Однако ряд фактов, в частности участившиеся военные походы отдельных правителей на соседние земли, свидетельствует об усилении классовых противоречий. Когда дербентские воители за веру делали военные вылазки далеко в глубь гор или же когда владетели Серира выступали против Ширвана или Дербента, целью этих акций был не только захват добычи и пленных. Отвлечь недовольные слои крестьян или горожан от активной классовой борьбы — вот вторая цель походов.
В V в. сасанидские правители сосредоточили в Албании, Армении и Иберии значительные гарнизоны для упрочения здесь своего положения и для «защиты» этих стран от северных кочевников.
Народы Закавказья неоднократно отвечали восстаниями на политику иноземных завоевателей, натравливавших народы друг на друга и насильственно насаждавших зороастризм.
Одно из крупных восстаний армян, иберов и албан вспыхнуло в середине V в. Его возглавлял спарапет Вардан Мамико- нян, который погиб в 451 г. в сражении на Аварайском поле.
Некоторые дагестанские племена выступали при указанных событиях на стороне Ирана. Так, в борьбе против восставших армян участвовали, как сообщает армянский историк, «весь корпус Таваспорана» и «вспомогательные войска катешов, гуннов, гелов».
Однако в последующих событиях, как показывают исторические источники, даже те дагестанские племена, которые раньше выступали на стороне Ирана, вливаются в ряды активных борцов против иранской агрессии.
Через шесть лет в Албании опять вспыхнуло восстание против Сасанидов. Воспользовавшись усилением внутренних противоречий в Иране после смерти Иездегерда II в 457 г., правитель Албании Ваче II собрал значительное войско и совместно с «царями горских племен», т. е. дагестанцами, выступил против Сасанидов.
Как сообщает армянский историк Елише (Егише), Ваче отказался подчиниться персидской власти, пропустил через проходы Чора маскутские войска и, объединившись с одиннадцатью «царями» горных племен, нанес поражение персидским войскам.
Сасанидский царь предпринял несколько попыток начать переговоры с восставшими, но они закончились неудачей. Тогда он призвал на помощь племя хонов, которое, прорвавшись через Аланские ворота, произвело страшные опустошения на территории Албании. Это ослабило восставших, но не сломило их воли к сопротивлению. Моисей Каганкатваци писал, что «хотя войска Ваче уменьшились и рассеялись, но покорить его не могли», т. е. разрозненные отряды восставших начали партизанскую борьбу против персидских войск. Тем не менее по не совсем понятным причинам Ваче II отказался от албанского престола (461 г.).
481—484 годы также отмечены восстаниями закавказских народов против Сасанидов, усиливших налоговый гнет в связи с борьбой с восточными соседями.
Решительная борьба народов Закавказья и неудачная война с соседями на восточных границах государства заставили персидского царя Валарша (485—488) пойти на значительные уступки. Были восстановлены привилегии армянской знати, прекратилось преследование христиан и язычников. Более того, «Валаршак, царь персидский, — как писал Моисей Каганкатваци, — дал повеление, чтобы каждый твердо хранил свою веру, пи желанию своему, и никого насильственно не обращать в религию магов». Были сокращены размеры повинностей и податей.
Эти уступки при сложившейся ситуации диктовались усилившимися в V—VI вв. набегами кочевых племен «гуннов», а затем хазар на державу Сасанидов, в связи с чем охрана северных ее границ приобретала первостепенное значение. Укрепление кавказских проходов стало одной из важнейших задач сасанидских правителей. Главное внимание было обращено на обеспечение безопасности границ со стороны Дербентского прохода.
На территории Восточного Кавказа было построено несколько линий оборонительных стен. Самая южная и первая по счету — это стена в проходе у вершины Беш-Бармак, построенная при Иездегерде II. Затем идет вторая линия оборонительных сооружений вдоль р. Гильгинчай (Ширванская стена). Сохранились до сих пор также следы оборонительной стены севернее р. Самур. Но самыми грандиозными были дербентские укрепления, строительство которых было завершено в 567 г.
Дербентские стены не только закрывали Дербентский проход, но и обеспечивали безопасность с северо-запада, со стороны горных проходов. Возведение стен Дербентской крепости дало возможность намного сократить численность персидского гарнизона, непосредственно контролировавшего проход. Балазури писал по этому поводу, что Ануширван повесил у входа стены железные ворота, поручив охрану их ста всадникам, тогда как раньше для охраны этого места требовалось 5—10 тыс. воинов. Еще раньше, по сообщению дагестанской исторической хроники «Дербенд-наме», в Дербент было переселено из внутренних районов Ирана 3 тыс. .семейств, служивших опорой сасанидских властей в самом городе и окрестных селениях. Все это привело в середине VI в. к окончательному закреплению района Чога, включавшего земли вдоль Самура до Дербентского прохода, в составе Ирана.
Строительство оборонительных сооружений по берегу Каспийского моря требовало колоссальных финансовых затрат и было возможно только при использовании труда многих тысяч крестьян и рабов, насильственно сгоняемых из многих восточных стран. Основная же тяжесть строительства — изнурительный труд, резкое увеличение налогов в связи со строительством — пала на плечи кавказских народов. Моисей Каганкатваци писал, что сасанидские правители при строительстве дербентских стен «изнурили нашу страну, собирая архитекторов и изыскивая разные материалы для построения великого здания». Огромных материальных затрат требовала и продолжавшаяся война Ирана с Византией. Перепись населения и новая система обложения, проведенная при Ануширване I, также увеличивали налоговое бремя.
Положение народов Кавказа все более ухудшалось. Усиливался феодальный гнет. В проведении своей политики Сасаниды опирались на местных феодальных правителей, за которыми Хосров Ануширван сохранил власть и богатства. Балазури писал: «…и выбрал Ануширван царей и назначил их, предоставив каждому из них шахство над отдельной областью». В их числе названы правители Серира (с титулом вахрарзаншах), Филана (филаншах), Табасарана, Лакза (джурджаншах), Маската, Лирана, Ширвана, Бухха, Зирих- герана. Все это привело к общему взрыву — восстанию албан, армян и иберов в 571—572 гг.
Местная историческая хроника «Ахты-наме» сохранила отголоски борьбы против Ануширвана в Дагестане. В селении Ахты до сих пор бытует предание о том, что Ануширван построил в Ахты крепость для защиты своих войск от нападения горцев. Рассказывают, что астрологи предложили Ану- ширвану покинуть крепость, ибо жителей Ахты невозможно было подчинить. Ночью жители селения напали на крепость, сожгли ее и уничтожили находившиеся там иранские войска
Дагестанские племена приняли активное участие в событиях, происходивших после строительства фортификационных сооружений на Восточном Кавказе. Как сообщает грузинская летопись «Картлис-Цховреба», при армянском царе Хосрове армяне, грузины, оссы, леки и хазары совместно выступают против царя Ануширвана и проникают в Иран. Там же упеминается, что грузинский царь Гурам (570—600) «приглашает овсов, дурдзуков и дидойцев и идет против персов».
Выступления подчиненных областей, а также война с Византией, продолжавшаяся 20 лет, заставили Сасанидов пойти на уступки закавказским и дагестанским феодалам и предоставить им значительные права во внутреннем самоуправлении.
В VII в. на Аравийском полуострове произошли события, положившие начало новой странице в истории народов стран Средиземноморья, Передней и Средней Азии. Здесь был завершен процесс объединения мелких союзов племен в единое централизованное государство. Становление классовых отношений и политическое объединение Аравии сопровождалось возникновением новой монотеистической религии — ислама, заменившего постепенно языческие культы земледельческих и скотоводческих племен. Под знаменем ислама шла борьба не только за объединение, за создание централизованного арабского государства, но также велась захватническая война за овладение богатейшими землями на севере, западе, востоке от Аравийского полуострова. Был создан Арабский халифат, в состав которого вошли страны, стоявшие на различном уровне социальной и экономической жизни, с различным этническим составом.
Арабский халифат создавался в ожесточенной войне с местным населением, оказывавшим завоевателям упорное сопротивление. В середине VII в. была сломлена мощь сасанидского Ирана, что открыло арабам дорогу в Среднюю Азию и Закавказье. Народы этих областей с оружием в руках отстаивали свою независимость. Народы Дагестана также поднялись против иноземных захватчиков.
Угроза арабского нашествия поставила вопрос о совместном выступлении кавказских владений, однако условия политического и экономического развития Закавказья и Дагестана не способствовали реализации этих стремлений. Правда, .антиарабские союзы заключались, но они распадались, не успев окрепнуть.
Территория Дагестана не случайно привлекала внимание арабов. Это был важнейший стратегический участок. В районе Дербента проходила северная граница халифата, и охране этого района всегда придавалось очень большое значение.
Однако главное заключалось в том, что территория Восточного Кавказа имела важное экономическое значение. По ней проходил путь, соединявший Восточную Европу со странами Востока. Усилившиеся связи Поволжья, Дона, Восточной Европы со Средней Азией и ближневосточными странами подогревали желание арабов укрепиться в бассейне Каспийского моря, овладеть, в частности, торговым путем, проходившим вдоль западных берегов Каспийского моря.
Упрочение власти арабов на Восточном Кавказе привело бы не только к захвату важнейшего торгового пути, перспективы развития которого были все более обнадеживающими. Это означало бы также создание таких условий, которые позволили бы арабам спокойно эксплуатировать богатые районы Закавказья и Ближнего Востока.
Таким образом, территория Дагестана приобретала важное экономическое и стратегическое значение.
Этим объясняется ожесточенный характер столкновения интересов двух крупных, экономически растущих государств — халифата и Хазарии — на территории Дагестана. Этим можно объяснить также ту поддержку, которую неоднократно оказывала Византия Хазарии, боровшейся с Арабским халифатом, главным конкурентом Византии на пути к политической и экономической гегемонии на Ближнем Востоке. Таким образом, указанные обстоятельства послужили причиной, побудившей арабов так систематически, настойчиво, упорно начиная с середины VII в. и до начала IX в., т. е. в течение ста пятидесяти лет, стремиться укрепиться в Дагестане.
В середине VII в., подчинив своей власти Восточное Закавказье, арабские войска двинулись к Дагестану.
Арабский военачальник Салман, пишет Балазури, переправился через Куру, занял Кабалу и заключил с владетелем Шаккана мир с условием платить подать. Такой же мир был заключен с Хайзаном, Ширваном, Маскатом, Дербентом, Лакзом, Табасараном. Салман сохранил за владетелями их земли, определив ежегодную подать. Но эта зависимость была временной, и правители Лакза, Табасарана и Дербента отказались вскоре от условий арабов.
Жители Дербента при первом же походе выступили совместно с хазарами против арабов, захвативших город. Арабский отряд в 4 тыс. воинов был разбит в 652—653 гг. Но в 685—686 гг. Дербент был захвачен арабами.
Начало VIII в. характеризуется усилением арабской экспансии на западном побережье Каспийского моря. Начинается этап завоевании, длившийся почти сто лет.
Горцам пришлось иметь дело с хорошо вооруженной и многочисленной армией. Арабские войска состояли из конницы и пехоты. Они обладали большой подвижностью, хорошо налаженной постоянной связью с отдельными частями. Была выработана своеобразная тактика — в бою воины старались охватить противника с флангов.
Одним из стимулов завоеваний арабов был захват добычи. Добыча, захваченная на войне, должна была распределяться следующим образом: пятая часть — в казну, точнее пророку, его роду, вдовам и сиротам, а остальное делилось между воинами из расчета, что всадник получает втрое больше пешего. Впоследствии выработалось учение о джихаде — «священной войне», — ставшей одной из обязанностей мусульманина. Убитые на войне за веру окружались ореолом «мучеников», и им ислам уготовил вечное пребывание в раю.
Крупные выступления арабов, направленные на захват Дагестана, были связаны с именем Джерраха, который в 722/723 г. в ответ на хазарский набег в Закавказье вступил в Дагестан.
Преследуя хазар, Джеррах ворвался в Дербент и послал свою конницу против областей, соседствующих с городом. Им были захвачены крепости Хусайн, Йаргу и Беленджер.
Сопротивление хазар и дагестанцев было упорным и длительным. Жители крепости Яргу (Тарки) сопротивлялись в течение пяти дней, после чего были вынуждены сдаться.
Упорное сопротивление арабам оказали и другие народы Дагестана. С их помощью хазарам удалось отвоевать Дербент у арабов. Разгневанный Джеррах отправляет для наказания жителей 2 тыс. всадников в Кайтаг и столько же в Табасаран, которые вернулись из похода с огромной добычей, тут же поделенной между воинами. Но все эти попытки не привели к покорению Дагестана. Поэтому в VIII в. было предпринято еще несколько походов на территорию внутреннего Дагестана. Наиболее крупные из них были осуществлены под водительством Масламы и Мервана.
Маслама сын Абд ал-Малика, брат халифа Хишама, был известным арабским завоевателем. В 725/726 г. он был назначен правителем Армении и Азербайджана и начал упорную борьбу за захват Восточного Кавказа.
С «царями гор», правителями Ширвана, Лирана, Табасарана, Лакза, Филана, Маската был заключен мир. Открылась, дорога на Дербент, где укрылась тысяча хазарских семейств. Только после того как Маслама забросал падалью источник воды, питавший крепость, осажденные вынуждены были оставить ее. Захватив город, Маслама предпринял ряд серьезных мер по укреплению его как плацдарма для дальнейших завоеваний. Он переселил в город 24 тыс. воинов из Сирии,, построил амбары для провизии и склад для оружия, восстановил разрушенные части крепости.
Обосновавшись в Дербенте, арабы решили упрочиться и в других районах Дагестана. Они ворвались во внутренний Дагестан, в земли табасаранцев, кайтагов, лаков. Даже мусульманские хроники вынуждены были отметить вооруженное выступление дагестанских народов. Так, согласно дагестанской исторической хронике «Дербенд-наме», погибло большое число жителей Кайтага, не захотевших подчиниться и принять ислам. Потребовалось несколько сражений, чтобы покорить лаков. Табасаранцы также не подчинились, но вынуждены были временно принять ислам после того, как многие из них были истреблены или взяты в плен. Затем Маслама направился в Серир. И, наконец, он обложил всех жителей Дагестана податью, которую приказал доставлять ежегодно правителю Дербента.
Казалось, весь Дагестан был захвачен, но подчинение Дагестана арабской власти было очень недолгим, о чем наглядно говорят последующие события, когда объединенные силы дагестанцев и хазар заставили арабов отступить вплоть до Дербента. Арабский историк Ибн ал-Асир (1160—1234) писал по этому поводу, что Маслама «приказал своим войскам pa3v вести огонь, а потом, бросив палатки и обоз, пустился обратно в путь со своими войсками без всего. При этом Маслама послал вперед слабых, а храбрых оставил позади. И прошли они множество “станций”, делая по две станции вместо одной, пока не дошли, еле живые, до ал-Баб ал-абваба».
Ряд последующих арабских походов, совершенных в 30-х годах VIII в., был возглавлен Мерваном ибн Мухаммедом ибн Мерваном, двоюродным братом халифа, правителем ал- Джазиры, Азербайджана и Армении. Под его руководством с 732/3 по 739 г. было совершено по крайней мере шесть походов в различные районы Дагестана.
В первом крупном выступлении участвовало большое число войск, шедших на Дагестан с двух сторон — севера, от аланских ворот, и с юга. Хазары вынуждены были отступить, хакан «принял ислам», а Мерван оставил за ним власть «в его области».
Отступление хазарского войска и заключение перемирия между арабами и хазарами значительно ухудшило положение горцев. Теперь уже приходилось надеяться только на свои собственные силы. Тем не менее арабы столкнулись с упорным сопротивлением горского населения.
Вскоре арабские войска опять ворвались во внутренние районы Дагестана. После неоднократных схваток Мервану удалось в 739 г. заключить выгодные договоры с правителями Серира, Тумана, Зирихгерана, Кайтага, Табасарана, Лакза, Филана и обязать их вносить ежегодные подати.
В VIII в. арабская экспансия, как уже указывалось, усиливается. Борьба за Восточный Кавказ принимает все более ожесточенный характер. Один поход следует за другим. И это не случайно. Исключительный интерес к западному побережью Каспийского моря объясняется тем особым значением, которое приобретала в это время каспийская торговля. Прекращение торговых отношений халифата с Византией и перемещение международной торговли в бассейн р. Куры в связи с развитием международной торговли с Юго-Восточной Европой влекло за собой усиление роли Восточного Кавказа и каспийской торговли.
Усилению торговых операций в странах, входивших в состав халифата, значительно способствовала также монетная реформа, проведенная при халифе Абд ал-Малике и положившая конец путанице в монетном обращении. Были запрещены сасанидские и византийские монеты, изъяты из обращения фальшивые. Была введена единая арабская монетная система. Все это упорядочило финансы, упрочило казну и способствовало установлению более близких связей между торговыми центрами.
В этой обстановке изо дня в день растет значение Дербента. Теперь это уже не только торговый город, но и крупный ремесленный центр, связанный с другими торгово-ремес- ленными очагами Ближнего и Среднего Востока, Нижнего- Поволжья. В начале VIII в. здесь уже чеканят монеты.
Еще в первые годы завоеваний арабы извлекали огромные доходы из оборотов каспийских портов. По распоряжению халифа Омара (634—644) иностранные купцы, доставлявшие товары в Дербент, платили десятипроцентную пошлину, а купцы-зиммии (немусульмане, подданные халифата) — пятипроцентную. Кто владел Дербентом, тот контролировал волжско-каспийскую торговую линию. Поэтому становятся понятны те отчаянные попытки, которые были предприняты арабами для захвата города. В результате почти вековой борьбы арабам удалось наконец укрепиться в районе Дербента. В то же время внутренние районы Дагестана оставались фактически независимыми. Этому способствовало то обстоятельство, что арабам приходилось распылять свои силы на подавление восстаний, то и дело вспыхивавших в Средней Азии, Закавказье, Сирии и других областях обширного халифата. В 40-х годах VIII в. эти выступления приняли особенный размах.
В 750 г. была свергнута династия Омейядов и власть в халифате перешла к Аббасидам. Новая династия халифов вначале пользовалась широкой поддержкой масс крестьян и ремесленного люда, которое связывали с ней мечту об освобождении от социального гнета, усилившегося при Омейядах. Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Напротив, налоговое бремя еще больше увеличилось. Народные массы стали выступать против власти Аббасидов.
Именно в аббасидский период по всему халифату прокатилась волна крестьянских движений, особенно мощная в его восточных областях (восстание Муканны в Средней Азии, Бабека в Азербайджане). Эти движения имели освободительный, антифеодальный характер.
Усиливается борьба и в Дагестане. Многотысячная арабская армия была разбита хазарами в районе Дербента, и халиф вынужден был принять исключительные меры для восстановления своих позиций. По его распоряжению из тюрем было выпущено семь тысяч заключенных, которые пополнили отряды воинов, спешно собранных в разных областях и отправленных в Дагестан. Был предпринят ряд других мер для того, чтобы прочно обосноваться в районе Дербента.
Из различных областей халифата, в частности из Сирии и Месопотамии, около 7 тыс. мусульманских семей было поселено близ Дербента. Кроме того, были возведены крепости в таких пунктах близ Дербента, как Рукал, Кала-Сувар, Митаги, Бильгади. В Табасаране были также построены опорные пункты, сохранившиеся до наших дней — Камах (совр. Камах), ал-Мухаммадия (совр. Химейди), Баб-Вак (совр. Дарвак).
В конце VIII — начале IX в. борьба против арабской власти на Кавказе становится еще более острой. Частые выступления в Закавказье и неудачи арабских войск приводят к тому, что халиф Харун ар-Рашид (786—809) вынужден смещать одного за другим своих наместников в Закавказье.
Был смещен и наместник Дербента. Воспользовавшись смутами в городе, в Закавказье ворвались хазары. Только после больших усилий новому наместнику Азербайджана и Армении Йазиду ибн Мазьяду удалось с помощью феодальной верхушки закавказских владений вернуть Дербент. Это было последней акцией арабских войск в Дагестане.
С начала IX в. уже нет известий ни о походах арабов, ни о выступлениях хазар. Только до второй половины IX в. аббасидский халифат сохранял по крайней мере внешний вид единого государства, а с начала X в. политический распад халифата становится совершившимся фактом. В Египте, Иране, Тунисе, Марокко, Алжире, Средней Азии, Закавказье уже сложились самостоятельные государства, независимые от центральной власти.
Это было следствием развития феодальных отношений и связанного с ним усиления сепаратистских, центробежных устремлений местных феодалов и феодальных правителей. Народные восстания расшатали мощь халифата. Серьезную [юль в этом сыграли крупнейшие восстания крестьян и ремесленников в Средней Азии, в Азербайджане, Месопотамии, Сирии, Иране, Армении, Хорасане и других областях.
Что касается Восточного Кавказа, в частности Ширвана и Дербента, то эти области оказались во власти династии арабского происхождения. В Дербенте правила династия Хашимидов, подчинявшаяся Ширвану, но иногда проводившая самостоятельную политику.
Остальные области Дагестана в IX—X вв. уже были вполне независимы.
Арабские завоевания оказали огромное влияние на все области жизни дагестанцев.
Эти завоевания нанесли огромный ущерб экономике народов Дагестана. Многочисленные походы в район приморья, а также в горные районы повлекли за собой разрушение производительных сил в массовом масштабе; военные операции, массовый угон в плен населения приводили к тому, что сельское хозяйство приходило в упадок, ремесла хирели, дороги приходили в негодность. Отдельные части Дагестана” теряли связь между собой. Постой арабских гарнизонов и ряд повинностей, связанных со снабжением войска, тяжелым бременем ложились на трудящихся.
Районы, где прошли завоеватели, подвергались колоссальным разрушениям. Почти каждый поход арабов сопровождался разрушением городов, аулов, крепостей, захватом огромной добычи, убийствами.
Как известно, мусульманская теория различает области, подчинившиеся арабским войскам без боя, и области, завоеванные силой. Области, подчинившиеся власти арабов, получали гарантии жизни и собственности жителей при условии уплаты поголовной подати (джизья) наряду с поземельным налогом — хараджем. Напротив, завоеванные области считались добычей победителей, а жители — рабами халифата в целом. Поэтому в Дагестане, где население оказало ожесточенное сопротивление, походы сопровождались массовыми грабежами, угоном скота. Так, после набега на деревни Кайтага Джаррах возвратился, как сообщает «Дербенд-наме», с добычей в 12 тыс. голов рогатого скота и овец, а в Табасаране было захвачено 40 тыс. голов лошадей, рогатого скота и овец. Со слов Ибн ал-Асира, арабы, силой овладев замком Йаргук (Тарки), «захватили в раби’а все, что было в нем, так что каждому всаднику досталось до триста динаров, а их было более тридцати тысяч».
Одним из существующих стимулов завоевательных войн: арабов был захват рабов. Еще в начале VIII в. рабовладельческий уклад в социально-экономической жизни феодализм- рующегося халифата играл огромную роль и приобретению значительных масс рабов придавалось немаловажное значение. Так, со слов арабского историка Табари (838—923), наместник Хорасана Кутайба увез из Хорезма в 711/712 г. 100 тыс. рабов.
Некоторые представители высшей знати имели по нескольку тысяч рабов, работавших на земле и в ремесленном производстве. Огромные массы рабов использовались в омейяд- ской армии в качестве вспомогательной силы. Поэтому источники полны сведений о взятии большого числа пленных почти во всех завоеванных областях, в частности в Дагестане. Джаррах в Табасаране захватил 2 тыс. пленных, в Кайтаге —700 и обязал вносить ежегодную «подать» — от Серира — тысячу пятьсот юношей и пятьсот девушек, от Тумана — сто пятьдесят девушек и пятьдесят юношей, от Зирихгерана — пятьдесят юношей и т. д.
Налоговая политика в завоеванных странах выразилась во взимании поземельного налога и подушной подати, а также в организации многочисленных натуральных повинностей. При этом в завоеванных землях арабы распространили ту податную систему, которая существовала в государстве Сасанидов.
Поземельный налог, харадж, вносился покоренным населением на условиях договора, формы оплаты его были различны — натурой в виде части урожая, деньгами или же натурог и деньгами вместе.
Подушная подать, т. е. джизья, — *то своего рода вознаграждение завоевателям за их веротерпимость. Покоренное население могло сохранить свою религию, но на условиях уплаты подушной подати, т. е. джизьи. Освобождались от джизьи только женщины, дети и старики, т. е. те, «с которыми нельзя сражаться», монахи и священники.
Наиболее систематический характер налоговая система при арабах приняла в Дагестане после похода Мервана. Характерно, что Мерван обложил земли, подчиненные путем договора, податью, взыскиваемой ежегодно, т. е. была предпринята попытка регулярно взыскивать харадж. Известно, что поземельный налог взыскивался обычно не с отдельных лиц, а с определенного района, с комплекса земельных угодий. Так было и в Дагестане. Когда Балазури пишет, что в первой половине VIII в. арабский полководец Мерван заключил договоры с владетелями гор, заставив согласиться владельца Серира поставлять ежегодно в зернохранилище Дербента сто тысяч мер зерна, жителей Тумана — доставлять ежегодно двадцать тысяч мер зерна, Зирихгерана — десять тысяч мер, Хамзина — тридцать тысяч, Лакза — двадцать тысяч, — мы имеем дело не с чем иным, как с хараджем.
В завоеванных землях арабы придерживались своеобразных взаимоотношений с местными правителями . По отношению к местным династиям, в общем, арабы держались единой политики: в подчиненных областях они ставили своих правителей, которые распоряжались военной властью и финансами; национальные династии обыкновенно сохраняли свое существование и удерживали за собой гражданскую власть. В Дагестане, однако, это правило нашло своеобразное применение. Здесь политика арабов была рассчитана не на замену местных правителей новыми, арабскими, а на использование большинства местных правителей в интересах укрепления своей власти.
Смена местных правителей была явлением исключительным (например, в Дербенте), связанным с отказом подчиниться, принять ислам, платить подати. Вспомним хотя бы описание похода Мервана в глубь дагестанских гор, данное Балазури: он пишет о походе в Серир, Туман, Хамзин, Табасаран, Филан, Лакз. Нигде нет сообщения о замене одного правителя другим, напротив, все местные правители остаются на местах, принимают условия, предложенные завоевателями; более того, под водительством местных правителей войска, составленные из зиммиев, играли существенную роль в арабской армии, принимали участие в военных акциях на правах самостоятельных боевых единиц.
Такая практика находила широкое применение как на Кавказе, так и в Средней Азии.
В дореволюцонной историографии Дагестана утвердилась концепция об иноземном происхождении государственной власти, об арабском (или иранском) истоках государственности в дагестанских владениях. Местные исторические хроники («Тарихи Дагестан», «Асари Дагестан») связывали происхождение дагестанских феодальных правителей — майсумов, уцмиев и шамхалов с именем арабского полководца Абу Муслима: подчинив Дагестан, он назначил в захваченные области своих ставленников. Амир Гамза был назначен правителем Кайтага (его наследники стали называться уцмия- ми); майсум — в Табасаран (наследники власти — майсумы); шамхал, «потомок Аббаса, дяди пророка», — правителем всего Дагестана с резиденцией в Кумухе. Более того, некоторые хроники связывают с арабами происхождение не только правителей феодальных образований, но и владетелей отдельных населенных пунктов. Одна из таких хроник, известная под названием «История Абу Муслима», так характеризует процесс образования феодальной верхушки в отдельных селениях: Абу Муслим, распространив ислам в ряде районов; Дагестана, ушел к себе на родину после семилетнего пребывания в Дагестане. Внуки его стали управлять отдельными селениями. Потомки этих правителей также обосновались в различных селениях, а затем часть их перешла в Кубу, в Ширван, в Табасаран, в селения Аварии, в Кумух, Кайтаг, Кубачи, Хушни, Шиназ, Цудахар.
Цель подобного рода интерпретации происхождения государственной власти сводилась к тому, чтобы в угоду правящей верхушке феодалов освятить близостью к пророку и его сподвижникам власть феодалов и феодальных правителей. В действительности же ни в одном из источников, датируемых VIII—XII вв., ни разу не упоминаются шамхалы, уцмии, майсумы. Ни один из арабских авторов не пишет о них; более того, никто из них не пишет о назначении арабских правителей в дагестанские владения или отдельные селения (за редкими исключениями). Напротив, судя по сообщениям представителей арабской историко-географической литературы, о которых уже говорилось, арабы застают уже местных правителей, «царей», воевавших с арабами, вступавших с ними в военно-политические союзы или подчинявшихся им.
Что же касается терминов «уцмий», «шамхал», «майсум» и т. д., то с арабскими завоеваниями они никак не связаны, хотя их раннее происхождение и возможно. Впервые эти термины встречаются в текстах XIII—XIV вв.
Складывавшиеся в Дагестане классовые отношения, гнет феодализирующейся верхушки должны были найти идеологическое оправдание. Новые социальные отношения не могли базироваться на таком идеологическом фундаменте, как языческая религия, господствовавшая в Дагестане в это время.Нужна была монотеистическая религия, которая утверждая единобожие, тем самым утверждала бы незыблемость власти феодальных правителей.
В. И. Ленин писал: «Все и всякие угнетающие классы нуждаются для охраны своего господства в двух социальных функциях: в функции палача и в функции попа. Палач должен подавлять протест и возмущение угнетенных. Поп должен утешать угнетенных, рисовать им перспективы (это особенно удобно делать без ручательства за «осуществимость» таких перспектив) смягчения бедствий и жертв при сохранении классового господства, а тем самым примирять их с этим господством, отваживать их от революционных действий, подрывать их революционное настроение, разрушать их революционную решимость»[1].
Распространению ислама способствовала наивная вера угнетенных народов в избавление от растущего феодального гнета. Лозунг о «равенстве» всех мусульман перед Аллахом воспринимался как признание необходимости социального равенства. Кроме того, за пределами полуострова арабы первоначально не навязывали христианскому, еврейскому или «языческому» населению свою религию насильственными методами.
Давление шло по линии экономической. Арабы предлагали или принять ислам (в этом случае им обещалось равенство прав и обязанностей с завоевателями), или подчиниться мусульманской власти и платить дань. За населением сохранялось право придерживаться старой религии при условии уплаты хараджа, т. е. поземельного налога, и джизьи (подушная подать).
Народы Дагестана, как указано выше, оказали упорное сопротивление арабским войскам, однако прибрежная полоса с городами Дербент и Семендер уже с середины VIII в. оказалась под властью завоевателей. Поэтому население Дербента и Семендера и было вынуждено в первую очередь принять ислам.
Более того, с этого времени одним из основных очагов мусульманства выступает Дербент и его окрестности с арабскими колонистами. Колонистов этих, по-видимому, немало, ибо по приказу правителя Армении Иазида ас-Сулами в середине VIII в. в .город вместе с войсками были направлены рабочие для строительства опорных пунктов близ Дербента.
Со слов Йакуби, благодаря вышеупомянутым мерам «мусульмане усилились и страна успокоилась». В Джидане и Табасаране в середине X в. правители были мусульманами. В середине X в. в силу сложившихся обстоятельств ислам приняла также часть лезгин и табасаранцев.
Однако основная часть населения Дагестана к середине X в. придерживалась старых религиозных верований. Сообщения ряда местных исторических хроник и утверждения представителей духовенства о повсеместном принятии ислама в Дагестане еще в VIII в. не имеют ничего общего с исторической правдой.
Действительно, если взять любую область Дагестана, исключая прибрежную полосу, то мы столкнемся с фактом господства в X в. первобытных верований (исключая отдельные районы с сильным влиянием христианства).
Господство первобытных религиозных представлений среди горцев в VII—X вв. документируется многочисленными данными археологических памятников средневекового Дагестана. В раннесредневековых могильниках зафиксированы явные признаки немусульманского и нехристианского обряда захоронения—ориентация костяка, наличие сопровождающего инвентаря рядом с покойником и т. д.
Народы Кавказа издавна установили между собой экономические, культурные и военные контакты и нередко совместно выступали против иноземных завоевателей, вели борьбу с социальным гнетом. Общность исторических судеб народов Кавказа наглядно выявляется при ближайшем изучении истории их взаимоотношений.
На первый взгляд может показаться, что история взаимоотношений между отдельными народами, в частности народами Кавказа, — это история постоянных столкновений между ними. Дело в том, что письменные источники, как правило, фиксировали не то, что постоянно имело место в обыденной жизни, а лишь те события, которые считались из ряда вон выходящими и оставляли глубокий след в памяти народа, — крупные военные столкновения, которые наряду с эпидемическими заболеваниями, стихийными бедствиями и наносили серьезный ущерб хозяйственной деятельности населения.
Действительно, многие хроники посвящены описанию военных столкновений, землетрясений, эпидемий чумы и т. д.
Разумеется, военные столкновения имели место и были даже частыми, но не они определяли характер связей между народами. Политические взаимоотношения протекали и в иной плоскости, а экономические и культурные связи вообще возможны лишь на основе мирных отношений. Так обстояло дело и во взаимоотношениях народов Дагестана с другими народами Кавказа.
Исторические судьбы Ширвана и Дагестана так тесно переплетались, связи их были так неразрывны, что совершенно немыслимо изучить их историю изолированно друг от друга.
Связи Ширвана и Дагестана развивались как по линии экономической, так и по линии военно-политической и культурной. Ширван временами включал в себя не только современный Северный Азербайджан, но также Дербент и часть районов Дагестана.
О Ширване (вернее, ширваншахе) средневековые авторы впервые упоминают в связи с событиями VI в. По данным арабского историка и филолога X в. Хамзы ал-Исфахани, царь Ирана Ануширван (531—579) построил Дербент, а в соседние области назначил «предводителей», которым подчинил определенную часть войска, предоставив их сыновьям в наследственное пользование земельные участки. Каждого из предводителей он одарил почетными одеждами, сшитыми искусными мастерами.
По рисунку на одежде получали свои титулы и правители: бограншах («царь кабана»), филаншах («царь слона»), ширваншах («царь льва»). Первый ширваншах, не довольствуясь порученной ему областью, расширил свои владения, присоединив к ним Дербент.
В середине VII в. Ширван подпал под власть арабов, а Дербент стал резиденцией арабских наместников наряду с Шемахой.
В середине IX в. один из представителей новой, арабской по происхождению, династии (Мухаммед ибн Халид) получил от халифа в качестве лена икта—-город Дербент (Баб ал- абваб) с зависящими от него землями.
В Дербенте вскоре обосновалась новая династия, просуществовавшая более двухсот лет. Основатель новой династии Хашим произвел в Дербенте восстановительные работы, возобновил разрушенные места, крепости, башни, -продовольственный склад. Доходы с нефти и соли в Баку шли на укрепление Дербента. Ширван всячески поддерживал в это время Дербент с его газиями, одаривал жителей города деньгами и пр.
В середине X в. значительно возрастает влияние Ширвана на соседние, в частности дагестанские земли. Усиление Ширвана связано с именем правителя Ширвана Мухаммеда ибн Иазида.
Экономическое и политическое усиление Ширвана привело к тому, что некоторые дагестанские земли оказались подвластны ширваншаху. В ряде случаев сыновья ширваншаха назначались правителями соседних, но подчиненных Ширвану владений. Один из них, Хайсам, стал правителем Табасарана, который непосредственно граничил с Ширваном.
Усиление Ширвана и попытки его феодальных правителей расширить свое влияние привели к усилению столкновений с дербентскими правителями. В этой сложной обстановке оба государства старались использовать в своих интересах традиционные связи с соседними дагестанскими владениями.
Дербентские правители использовали то обстоятельство,, что в ряде владений, в частности в Лакзе, имелись силы, настроенные против Ширвана, и приложили немало усилий к тому, чтобы привлечь их на свою сторону. Так, например, когда жители Дербента в 953 г. отказались от представителя дома ширваншахов, на его место стал «царь» страны Лакз Хашрама Ахмад ибн Мунабби. Правитель Табасарана (и временами Дербента) Хайтам, добивавшийся самостоятельности, нашел убежище в Лакзе.
В развернувшейся борьбе на стороне Дербента часто выступал также Табасаран. Поэтому в трудных обстоятельствах правители города прибегали к услугам жителей Табасарана.
В то же время взаимоотношения Ширвана с Сериром и рядом других владений были еще не урегулированы. Для правителей Ширвана было особенно важно наладить добрососедские и союзнические отношения с Сериром, чрезмерно усилившимся в X в. и принимавшим активное участие в политической жизни Восточного Кавказа.
Еще со второй половины IX в. взаимоотношения Ширвана. и Дербента, с одной стороны, и Серира —с другой, были явно враждебны. По сообщению «Истории Ширвана и Дер- бенда», написанной местным автором в конце XI в., начиная с 861 г., т. е. со времени создания независимой династии, правители Ширвана неоднократно совершали походы в Дагестан против «неверных» и чаще всего против «неверных” Серира. Правитель Серира также совершил ряд нападений на Ширван и Дербент. В X в. отношения двух сильнейших государств— Ширвана и Серира — оставались враждебными, причем нередко и Дербент выступал союзником Ширвана. В 909 (или 912) г. дербентский правитель вместе с ширван- шахом организовал «исламский набег» на Шандан, но шанданцы, сериры и хазары отразили это нападение, мусульмане были разбиты — и оба эмира попали в плен. Впоследствии, в 938 г., правитель Дербента повторил набег, но теперь уже совместно с кайтагцами, причем было убито «много знатных лиц Шандана»
Как видим, политические взаимоотношения Ширвана и Дагестана в IX — X вв. были напряженными. И Ширван и Дербент делали неоднократные попытки использовать дагестанские владения в своих политических интересах. Однако во многих событиях дагестанские владения играют самостоятельную роль и стараются использовать противоречия Ширвана и Дербента. С XI в. характер связей Ширвана и дагестанских владений резко меняется. Культурные и экономические факторы выступают на первый план.
Взаимоотношения народов Дагестана с народами Армении имеют глубокие корни и прослеживаются на протяжении многих веков, начиная с древнейших времен. В раннем средневековье эти связи хорошо отражены в области идеологической, в процессе распространения в Дагестане христианства.
Как известно, в IV в. господствующей религией в Армении было христианство, причем вплоть до середины VI в. армянская григорианская церковь находилась под непосредственным влиянием византийской церкви.
В Албании также господствовало христианство, и албанская церковь находилась в зависимости от армянского католикоса. Армянская церковь прилагала немало усилий, чтобы насадить христианство в соседних районах, часто преследуя при этом политические цели.
Первые попытки армянской церкви распространить христианство в районе Дербента относятся к IV в. По сведениям Фавстоса Бузанда, автора «Истории Армении», охватывающей события 315—390 гг., в стан «царя маскутов, имя которого было Санесан», был отправлен молодой епископ Григорис, который «представился маскутскому царю, повелителю многочисленных войск гуннов», и стал проповедовать христианство.
Эта попытка насадить христианство в районе Дербента не увенчалась успехом. Между тем племена северокавказских степей продолжали разорительные набеги на Закавказье, а война с Ираном требовала не только охраны северных границ, но и поддержки дагестанцев. Все это обусловливало активизацию деятельности христианских миссионеров.
Одним из факторов, благоприятствовавших деятельности миссионеров в Дагестане, было усиление политического влияния армянских царей на Южный Дагестан. Армянские князья, как пишет Егише Вардапет, охраняли от гуннов «северные врата дербентские».
Поддержка Ираном армянской церкви вызывалась политическими соображениями. Война Ирана с Византией требовала поддержки на самом Кавказе, и поэтому персидские правители стали всячески поощрять армян-монофизитов, выступавших за полное отделение от византийской церкви.
К этому времени и был создан очаг христианства в Чоге, т. е. в районе Дербента. Сведений о времени создания здесь епископата мы не имеем, но источники указывают дату его перенесения из Чоги в Партав (552 г.). Возможно, что Чога не переставал быть рассадником христианства и после перенесения епископата в Партав. Недаром католикос Виро и после указанных событий подписывается: «я, католикос Агванский, Любинский и Чоги».
Следы христианства в районе Чоги сохранялись и в последующее время, вплоть до наших дней. В районе Белиджи сохранилось «армянское кладбище», остатки надгробных плит с изображением крестов и обломки крестов.
К середине VI в. относятся также попытки насаждения христианства в Северном Дагестане, в «царстве гуннов», со столицей в Варачане. Большие сдвиги в хозяйственной жизни, тяга «гуннов» к оседлой жизни были удачно учтены христианскими миссионерами. «Гуннские» племена постепенно стали втягиваться в сферу византийской политики, направленной против Сасанидов. В первой половине VI в. к ним прибыло два посольства — из Аррана и Армении — с целью склонить их на сторону Византии.
Первое посольство, возглавляемое арранским епископом Кардостом, состояло из семи священников и направилось в 537 г. к византийским пленным, находившимся у «гуннов». Послы прошли в «землю гуннов» через Южный Дагестан мимо Дербента, по горам. Через несколько лет сюда же прибыло посольство от византийского императора, «чтобы купить воинов для войны с [языческими] народами». Посол императора поддержал деятельность арранского епископа.
Впоследствии к «гуннам» прибыл армянский епископ Макар, который построил «храм и каменное здание в их стране… совершил знамения и многих крестил». В это же время Византия отправила к «гуннам» «тридцать муллов с пшеницей, вином, маслом, льном, другими плодами и священной утварью».
В 684 г. в связи с участившимися набегами кочевых племен и в целях организации антиарабского союза на совете при албанском князе Вараз-Трдате (669—699) было решено отправить в Варачан посольство во главе с епископом Исраи- лем. В феврале 685 г. послы прибыли в Варачан.
В результате деятельности послов «гуннский князь» и его «лагерь» приняли христианство. Затем христианство приняли все «гунны». Были срублены священные деревья, и из них был построен огромный крест в Варачане. Были также уничтожены все капища «и погибли скверные кожи жертвенных чучел».
О дальнейшей судьбе христианства в Северном Дагестане мы не имеем сведений, однако попытки армянской церкви не прошли бесследно. Даже в IX—X вв., при господстве домо- нотеистических верований, в Дагестане христианство местами сохранилось. В Семендере еще в X в. был христианский храм наряду с мечетью и синагогой, причем значительная часть жителей Семендера была христианской. Христианские элементы сохранились в Кайтаге и Зирихгеране. Так, правитель Кайтага по имени Адзернарсе исповедовал все три религии: «в пятницу он молился с мусульманами, в субботу—с евреями, а в воскресенье —с христианами». В «царстве» была группа христиан, которая открыто могла заниматься проповедью.
В связи с приведенными выше сведениями из области армяно-дагестанских связей большую ценность приобретают подтверждающие их данные топонимики, а также предания, связывающие с именем армян происхождение отдельных населенных пунктов, урочищ. В Дагестане известно значительное число раннесредневековых поселений под названием «Армянское селение», «Армянский город» или «Армянская крепость». Встречаются также «Армянская дорога», «Армянские огороды» и т. д.
Лингвистический материал также приводит нас в область армяно-дагестанских связей. В армянском и дагестанском языках имеется ряд общих слов, а в аварском, армянском, грузинском встречаются общие архитектурные термины.
В истории грузино-дагестанских связей можно выделить два крупных этапа:V-X вв и XI-XV вв. На первом этапе преобладают связи военно-политические, когда в общей борьбе против иноземных завоевателей нередко приходилось объединять усилия многих кавказских народов. На втором же этапе доминируют контакты торгово-экономические и культурные.
Связи грузинского и дагестанского народов развивались и крепли в совместной борьбе со многими внешними врагами.
Со времени борьбы против Сасанидов совместные выступления грузинского и дагестанского народов носят более устойчивый характер. Народы Дагестана принимали участие вместе с грузинами и в крупном антииранском восстании, а царь Грузии Аспагур совместно с леками и овсами (осетины) поднимает мятеж против иранской власти. По призыву грузинского царя «леки» вместе с овсами и хазарами присоединились к армянскому царю в его борьбе против Хосрова Ану- ширвана. Впоследствии грузинский царь Гурам (570—600) выступает против персов вместе «с овсами, дурдзуками и дидой- цами».
Таким образом, совместные выступления дагестанцев и других кавказских народов носят уже постоянный характер, что впоследствии способствовало развитию торгово-экономических и культурных связей. Следует отметить, что мнение о постоянных набегах «леков» на грузинские земли в раннем средневековье лишены исторической почвы. Дагестанские археологи обнаружили на территории Дагестана, в частности горного, значительное число фортификационных сооружений— мощных укреплений и крепостей, а также укрепленных населенных пунктов, наличие которых не только обеспечивало политическую независимость населения Дагестана, но в значительной степени предотвращало набеги кочевников на плодородные закавказские земли.
С другой стороны, борьба закавказских народов — армян, грузин, албан—против внешних завоевателей сыграла огромную роль в сохранении фактической независимости многих дагестанских владений. Хроники сохранили много ценных сообщений о совместных выступлениях народов Грузии и Дагестана против арабской экспансии. Так, в середине IX в., когда брат грузинокого царя Гурам и эристав Армении обратились к горцам с просьбой не пропускать арабов, те немедленно выступили против арабского отряда и разгромили его. С другой стороны, как сообщает хроника «Дербенд-наме», аварский правитель, теснимый арабами, находит убежище в Тушетии.
Следует отметить также практику установления родственных связей между дагестанскими и грузинскими правителями, особенно заметную в IX—X вв. Обычно цель таких контактов везде однотипна: они рассчитаны на укрепление политических связей, на установление союзнических отношений не только в борьбе с внешними врагами, но и с эксплуатируемыми массами внутри собственного государства.
Как известно, в VI—X вв. ни Дагестан, ни Грузия не знали территориального единства, оставаясь разделенными на ряд феодальных княжеств. Политическая раздробленность ограничивала политические контакты, но не могла прекратить их.
Широкие политические связи и стремление установить свою власть в западных районах Дагестана толкали грузинских феодалов к попыткам утвердить здесь христианство. Развернулась широкая миссионерская деятельность в западных районах Дагестана. В идеологической области, в частности в распространении христианства, Грузия стала играть в западных районах Дагестана такую же роль, какую играла Армения в V—VII вв. в Южном и Северном Дагестане. Царь Ар- чил (668—718) насильно обращал в христианство «язычников», в том числе тушин и хунзов, т. е. аварцев. В Цуке- ти, т. е. в Цахурском участке, им была выстроена «церковь Касри», в связи с чем активизировалась и деятельность проповедников.
В последующие века связи с Грузией усиливались. В Аварии обнаружено большое число христианских памятников —

могильников, датируемых VIII—X вв. (близ селений Урада, Тидиб, Хунзах, Галла, Тинди, Кванада, Ругуджа). Христианские храмы обнаружены также в долине Аварского Койсу. Здесь и до настоящего времени сохранился христианский храм Датуна, датируемый концом Х—первой половиной XI в.
В аварских селениях найдено также большое число крестов или их изображений на камне. Сохранились остатки «церквей». Влияние Грузии и Армении на христианизацию Дагестана действительно было огромным, и, возможно, этим объясняется, что слово «крест» почти во всех дагестанских языках обозначено армяно-грузинским хач (хати), а также наличие большого числа грузинских имен среди аварцев — Илит1ай, Тамарой, Гьеркек1ли (Ираклий), Г1андуник1 (Андроник), К1ушк1ант1и (Константин), Харит1он, Илишу (Елисей), Георги, Бежан и др.
Нередко грузинское население переходило на территорию Дагестана и обретало здесь вторую родину. Оседали также посаженные на землю грузинские военнопленные (к примеру, тухум «гергилал», т. е. «грузинский», — в ряде аулов). Но это не было односторонним процессом. Дагестанские народы, в ‘частности группы аварцев, цахуров и рутулов, также находили пристанище в Восточной Грузии.
С установлением политических контактов тесно связано развитие торговых связей между двумя соседними народами. Хотя Грузию и Дагестан разделял Главный Кавказский хребет, это не могло мешать установлению торговых связей. Множество перевальных путей, и прежде всего Кодорский и Бантлашенский, сближали оба народа. Немаловажную роль в экономических взаимоотношениях Дагестана и Закавказья играл приморский путь, вдоль Каспийского побережья, через Дербент связывавший с Грузией не только внутренние районы Дагестана, но и Северный Кавказ, Поволжье, Древнерусское государство. В IX—X вв. повысилась роль Дербента в торговых сношениях Древнерусского государства и Северного Кавказа с народами Закавказья.
Грузия экспортировала в соседние области шелк, шерсть, одежду, керамические и ремесленные изделия, зерно, соль и другие товары. Многие из них попадали в Дагестан, главным образом зерно, соль, изделия ремесленников. В раннесредневековых могильниках Дагестана нередко встречается инвентарь грузинского происхождения — украшения и предметы туалета (серьги, бусы, бляхи, бронзовые и железные булавки с коралловыми головками). Из Дагестана в Грузию поступали произведения ремесленников — предметы быта, орудия труда, вооружение, украшения и т. д.
Взаимоотношения Хазарского каганата и раннефеодальных политических образований Дагестана не были до сих пор исследованы прежде всего потому, что доступный исследователям материал не давал возможности подробно остановиться на этом вопросе. Сохранились лишь самые отрывочные сведения о связях, которые несомненно имели место в очень больших масштабах.
Выше уже было указано, что Хазарский каганат включил в себя дагестанское «царство гуннов», а столица каганата была расположена на месте, откуда легко было установить связи с внутренним Дагестаном. Что касается территории горного Дагестана, то она, не входя в состав каганата,, имела тем не менее большое значение в его экономической жизни, так как по этой территории шел один из путей, соединявших хазар с Закавказьем.
Взаимоотношения между Хазарией и дагестанскими владениями складывались, как правило, на основе взаимного признания независимости. Обзор политических событий VII—X вв„ на Восточном Кавказе позволяет говорить о том, что раннефеодальные политические образования в Дагестане все более усиливались и в большинстве своем вели самостоятельную политику.
Имеется одно любопытное известие о взаимоотношениях каганата и дагестанских владений, в частности о податях, вносимых последними хазарскому хакану. Хазарский хакаш Иосиф в своем ответном письм,е Хасдаю ибн Шафруту, еврейскому сановнику при дворе испанских халифов, писал в X в.: «…с южной стороны живут 15 народов многочисленных и сильных, которым нет счета, до Баб ал-абваба. Они проживают в горах. Все жители Баса и Т.н.т до (самого) моря Кустантинии, на протяжении двух -месяцев пути, все платят мне дань».
Пространная редакция этого письма среди городов и стран, плативших хакану дань, называет также Семендер, Сриди (отождествляемый с Сериром) и др.
Никаких других сведений, подтверждающих эту (версию, пока еще неизвестно. Ни одна из дагестанских хроник, ни один из арабских авторов, насколько нам известно, не сообщает о дани, которую горцы вносили хазарскому правителю в X в. Поэтому указанное сообщение можно расценить как один из приемов, подсказанных стремлением возвеличить каганат в глазах испанского единоверца, или как анахронизм, связанный хронологически со временем возникновения Хазарского каганата, когда влияние хазар было более сильным, чем в X в.
В подтверждение можно привести сообщение грузинской хроники «Картлис-Цховреба», относящееся ко времени возникновения каганата: «…хазары, став могущественными, стали воевать против племен Лек и Кавказ, с их правителем Дурдзуком, сыном Тирета», который «платил дань царю хазар». Последующие же события подсказывают, что дагестанские владения добились полной независимости от хазар, то вступая с ними в мирные связи и военно-политические союзы, то небезуспешно воюя с ними.
Хазарам нередко приходилось сталкиваться со своими непосредственными соседями, что нашло отражение в письме неизвестного хазарского еврея X в. (Кембриджский аноним), называвшего Баб ал-абваб среди «народов», «воевавших с ними». Об этом же говорит сообщение Исхака ибн ал-Хусейна, автора географического компендиума «Книга холмов из кораллов», о том, что хазары воюют с тюрками, а жители Серира нападают на них.
Помимо сообщений грузинских хроник о столкновении «леков», т. е. дагестанцев, с хазарами (примерно в VII в.) рассказывают также и местные хроники, рисующие ожесточенную борьбу против хазарской агрессии. Местная хроника «Ахты- наме» констатирует, что хазары, будучи в Ширване, поселили своего военачальника Самсама в южнодагестанском селении Микрах у р. Самур, построив также новый город на этой же реке. Отсюда хазары двинулись в глубь гор и дошли до крупного, укрепленного аула Ахты. Осада аула длилась десять лет. Здесь хазары потерпели поражение от объединенных войск «эмиров Тарсы, Рутула, Джиныха и Руфука».
Названные здесь аулы долгое время оставались в союзе, помогая друг другу в борьбе с внешними врагами. Когда через 15 лет после описанных событий, продолжает хроника, хазары возобновили поход в глубь гор, захватили «города Тарсы», учинив расправу над населением, правитель аула Ахты обращается за помощью к дербентскому правителю. Последний, добавляет другая местная хроника, известная под названием «История Абу Муслима», направил в помощь лезгинским аулам своего военачальника Сейф ад-Дина, который вынудил хазарского ставленника бежать из Микраха вместе со своими приближенными.
Эти сведения о борьбе против хазарской власти взяты из двух местных исторических хроник, дошедших до нас в поздней и отрывочной передаче. Вполне возможно поэтому наличие здесь фактических неточностей, вымышленных имен, поздних вставок. Однако ряд сведений указанных хроник находит подтверждение в других источниках, в частности, перекликается с описаниями арабских авторов, рассказывающих о хазарах и их действиях на Кавказе. Так, сведения «Ахты-наме» о хазарах на р. Самур находят в известной степени подтверждение в сообщении Балазури о том, что арабский полководец Мерван разбил хазар, а затем поселил часть их «между Самуром и Шабираном, на равнине в области Лакз».
Однако столкновения между каганатом и дагестанскими владениями не были обычным явлением. В их взаимоотношениях не меньшее место занимали связи мирные или союзнические. В войне с арабами дагестанцы, как правило, стояли на стороне хазар, и этим отчасти объясняется стремление ряда дореволюционных и современных авторов изобразить события VII—IX вв. на Восточном Кавказе как столкновения только хазар и арабов. Обычным стал даже термин «арабо-хазар- ская война». Часто дагестанцы, выступавшие против арабов, подпадали под этот общий термин. Роль хазар в борьбе с арабской агрессией огромна, и совместные выступления против арабских войск отвечали интересам как Хазарии, так и дагестанских владений.
Известно, что Хазарский каганат покровительствовал торговле, так как государственная казна во многом зависела от торговых пошлин. Хазарские правители «создали упорядоченную обстановку в нижнем течении Волги, и для евреев, христиан и мусульман открылись возможности поселяться в стране по своему усмотрению… Арабские купцы завязывали регулярные связи с районами к северу от Каспийского моря, и Итиль, столица хазар, лежащая в устье Волги, стала общей целью их морских и сухопутных караванов»,-—писал Хейд, автор капитальной монографии о восточной торговле. В эту обширную торговлю был втянут и Дагестан. Внутренние районы Дагестана, по сведениям арабов, были связаны торговыми операциями со многими странами, причем Дербент служил складочным пунктом для их товаров. Наиболее широкие
возможности в торговле Дагестана о хазарами открылись в IX — первой половине X в., когда арабская экспансия была остановлена, а со многими дагестанскими феодальными владениями (в частности, Сериром, Гумиком) были заключены каганом мирные соглашения.
Связи Дагестана с Хазарией привлекают внимание еще в одном аспекте. При изучении вопроса об иудаизации хазарской социальной верхушки нельзя не иметь в виду горских евреев, издавна живущих на Кавказе, в частности в Дагестане. Если обратимся к упоминавшейся выше еврейско-хазар- ской. переписке X в., то найдем там косвенное подтверждение этому в сообщении о том, что место, где жили раньше хазарские евреи, называлось «гора Сеир».
Ираноязычные аланские племена, теснимые гуннскими полчищами, проникли на Кавказ еще в первых веках нашей эры и сыграли значительную роль в генезисе ряда северокавказских племен, в их исторических судьбах. Значение аланских элементов в формировании культуры северокавказских племен было настолько значительным, что раннесредневековая культура племен Северного Кавказа именуется аланской. Хронологически аланская культура охватывает IV—XIII вв., т. е. период ог нашествия гуннов до похода татаро-монгольских войск в 1223 г. На территории аланской культуры впоследствии сложились национальные культуры осетин, кабардинцев, карачаевцев, балкарцев, ингушей, чеченцев.
Находясь в непосредственном соседстве с дагестанскими племенами, аланы поддерживали с ними политические и экономические контакты. Взаимоотношения между аланским миром и Дагестаном были обычно добрососедскими. В X в. уже имеют место династические связи. Царь алан, один из наиболее сильных владетелей Кавказа, вошел в родство с царем Серира, женившись на его дочери. Усиление этих связей к IX—X вв. связано с ростом значения знаменитого северокавказского торгового пути, по которому осуществлялись регулярные связи между многими странами.
Путь этот проходил от Севастополиса (Сухуми) через Клухорекий перевал и р. Кубань в глубь Кавказа —к Центральному Кавказу и Каспийскому морю. Известно, что аланские купцы развернули обширную торговую деятельность и были известны не только в Крыму и на Кавказе, но также и в различных странах восточного мира — в Хорезме и Египте.
Культурное и этническое взаимовлияние нашло отражение в ряде археологических памятников, обнаруженных на территории Дагестана, точнее равнинного Дагестана. Известно, что аланские племена были носителями так называемой ка- такомбной культуры. Подобные памятники обнаружены и в Дагестане. Близ Дербента, на плато Паласа-Сырт, расположен огромный курганный могильник с катакомбными захоронениями. Катакомбы датируются IV—VII вв. Многочисленные катакомбы обнаружены также в числе погребений Верхнечи- рюртовского могильника, относящегося к V—VII ©в. В ряде могильников прослеживается деформация черепа, т. е. искусственное удлинение головы человека в младенческом возрасте,— обычай, существовавший у соседних аланских племен. В Бавтугае, на р. Сулак и близ Аркаса (Буйнакский район) также обнаружены катакомбы.
В некоторых деталях погребального обряда (употребление в погребениях в качестве подсыпки мела или древесного угля, захоронение частей конской туши), в формах керамики и погребального инвентаря также прослеживается аланское влияние. Таким образом, на полосе, примыкающей к Каспийскому морю, найдено три памятника, и в предгорье — один, в которых нашло отражение влияние аланских племен.
Указанные памятники свидетельствуют о проникновении носителей аланской культуры в Дагестан, в частности в ранне- средневековые города, для которых пестрый этнический состав был характерным явлением.
Взаимоотношения народов Дагестана с русами, с Древнерусским государством — одно из интересных и сложных страниц истории внешних связей Восточного Кавказа. Русско-дагестанские отношения имеют многовековую историю и восходят к периоду образования Древнерусского государства. Самое раннее известие о славянах (саклабах) в восточной литературе относится к концу VII в., — это короткое упоминание в известной «Книге песен» о наружности славян. С конца VII в. славянское население известно в Сирии. В Хазарии славянское население было не малочисленным, если учесть, что ряд восточнославянских племен платил в свое время дань хазарскому хакану. В результате похода Мервана (737 г.) большое число славян было насильственно переселено с Нижнего Поволжья на Кавказ. Проникновение славянских элементов на Северный Кавказ продолжалось и в последующее время. «В горах также есть племя славян»,— писал в X в. Хамадани, арабский географ и историк.
Славянское население Юго-Восточной Европы несомненно было связано торговлей с западным побережьем Каспийского моря, значение которого начиная с VII в. росло все более и более.
Торговые сношения славян с Востоком уже с конца VII в.. принимают более или менее регулярный характер. На территории России найдено значительное число монетных кладов, и их расположение характеризует пути, по которым шла торговля Восточной Европы со странами Ближнего Востока. Археологические работы в прибалтийских районах показали»
что в VII в. связи этих районов шли только в сторону бассейна Волги и Каспийского моря, с Византией же и Черным морем никаких контактов не было. Западное побережье Каспийского моря с двумя замечательными портовыми городами — Дербентом и Семендером — было, таким образом, средоточием оживленной торговой жизни.
Уже к концу IX в. русы-купцы были хорошо известны не только на берегах Каспийского моря, но даже в столице халифата, где их 1С товарами ожидали как дорогих заморских гостей.
В Хазарию из Бултарии, Руси, Киева попадали хлеб, мед, воск; Азербайджан, Джурджан, Табаристан доставляли ткани; боТатые материи для знати и багряницы для халифа шли из Константинополя; кольчуги, каски и вооружение получали, вероятно, из Кубачей. Ближний Восток доставлял шелковые, шерстяные и бумажные товары, вино, плоды и пряности. От славян же на Кавказ, в восточные страны шли дорогие меха, рогатый скот, мед, воск, дерево, зерно, цветные металлы, мечи, латы, стрелы. Особую статью дохода русских купцов составляли невольники и невольницы. Все эти товары шли через Дербент.
Автор составленного в конце X в. библиографического труда «Фихрист» Ибн Исхак ан-Недим рассказывает о после, отправленном к «королю русских одним из кавказских владетелей». Так как дагестанские владения в X в. были_ одними из_ наиболее значительных на Восточном Кавказе, наиболее близкими территориально^ более всех из горных районов связанными экономически с Восточной Европой, то можно предположить; что” «одним из кавказских владетелей» является дагестанский правитель. Местная хроника «Тарихи Дагестан» дает сведения, возможно несколько преувеличенные, которые позволяют говорить о политических контактах. Когда жите ли Дагестана, пишет хроника, узнали о наступлении арабов, «то все их неверные собрались вместе, сопровождаемые войсками Рус, которые всегда поровну делили с ними добро и зло»:
Таким образом, торгово-экономические, военно-политические связи имели к концу IX — началу X в., т. е. ко времени известных походов русов на западное побережье Каспийского моря, свою историю. Судя по тому, с какой легкостью предпринимали древние русы свои неоднократные походы в далекие прикаспийские страны, надо полагать, что они еще и до этих походов были знакомы с Северным Кавказом.
Как известно, монеты, выпускаемые халифами и амирами, как правило, имели хождение только в продолжение правления того властителя, от имени которого они чеканились. Новый правитель немедленно переплавлял монеты своего предшественника. Монеты эти могут, следовательно, точно датировать периоды оживления, падения или же прекращения торговых операций. На территории бывшего Болгарского княжества были найдены в 1840 г. около 460 куфических монет, и ни одна из них не была чеканена после похода русов на Кавказ в 913 г. Если древнейшая из найденных в России монет чеканена в конце VII в., то позднейшая относится к самому началу XI в. «Европейско-азиатская торговля» в начале XI в. прекратилась. Это было следствием «серебряного кризиса», охватившего весь Ближний Восток.
Взаимоотношения славян с восточнокавказоким миром в X в. приняли иную форму. Экономические и культурные связи отступили на второй план. Военный фактор стал преобладающим.
В X—XI вв. русы стали играть активную роль в жизни Восточного Кавказа. Известен ряд походов на южное побережье Каспия в конце IX — начале X в. Наиболее известны походы 913 и 943 гг. В походе 913 г. русы грабили имущество, уничтожали и жгли дома в Южном Прикаспии и Азербайджане. Поход 943 г. отличен по своему характеру от предыдущего. Здесь русы выступали с требованием признания их власти. В походе 943—944 гг. на Бердаа принимали участие дагестанские племена. В сирийской хронике XIII в. они названы «лезги». Русы пошли вдоль побережья Каспийского моря, овладели Дербентом, ворвались в Азербайджан.
Древнерусское государство представляло в X в. внушительную силу, и хазарский каган писал, что он охраняет устье Волги и не пускает русов «идти на исмаильтян, и (точно так же) всех врагов (их) на суще приходить к „Воротам”, потому что в противном случае они уничтожили бы всю страну исмаильтян до Багдада». Опасностью со стороны русов и. объясняется укрепление дербентского мола в X в.
Древнерусское государство сыграло решающую роль в разгроме Хазарского каганата. В 965 г. русы захватили Саркел (Белую Вежу), Итиль и Семендер и разрушили их до основания. Жители рассеялись, основная часть их ушла на юг, в район Дербента. Жизнь в самом Семеидере захирела, и о нем мы уже не имеем больше сведений. «Если там был виноградник, то плоды его сделались милостыней для бедных, разве что бог там позволил снова расцвесть (голому) стволу… Все это погибло вместе с городом», — писал в X в. Ибн Хаукаль в своей «Книге путей и стран».
После разгрома Хазарского каганата отдельные группы русов, вероятно, оставались в Северном Дагестане долгое время, и эта территория служила трамплином для их походов или связей со странами Восточного Кавказа, с соседними дагестанскими владениями. В 987 г. русы опять вмешались в дела Дербента. Правитель города, вступив в конфликт с городской знатью (раисы), тайно связался с русами, которые не преминули подплыть к городу. Однако жители Дербента перебили тех, кто высадился, и суда вынуждены были уйти к устью Куры. В 989 т. этот же эмир имел своего рода дружину или отряд телохранителей из русов, значительный по количеству.
Таким образом, после разгрома Хазарского каганата русы стали принимать активное участие в политической жизни Восточного Кавказа. Военное вмешательство происходило, как правило, в районе Дербента и Ширвана. Цель похода — захват добычи, хотя я бывали случаи вмешательства во внутренние распри по просьбе правителя или той или иной группировки. Взаимоотношения с внутренними районами Дагестана не носили характера острых конфликтов, что видно из факта участия «лезгин» в походе 943 г. или же участия алан в выступлении 1033 г.
С разгромом Хазарского каганата для восточных стран открылись перспективы непосредственных контактов с Древнерусским государством, дальнейшего развития торговли с Русью. Однако захват половцами южнорусских степей и нашествие сельджуков, а затем монгольских орд на Русь и Закавказье задержали этот процесс.
[1] В. И. Ленин, Крах II Интернационала, — Полное собрание сочинений, т. 26, стр. 237.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII