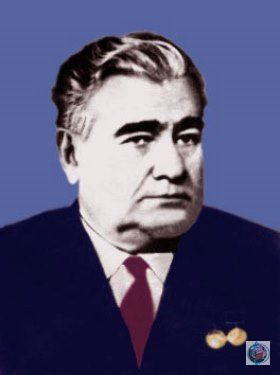Земельные отношения у народов лезгинской группы отличались большой сложностью и разнообразием в связи с многочисленными историческими и этническими факторами.
Земельные отношения у народов лезгинской группы отличались большой сложностью и разнообразием в связи с многочисленными историческими и этническими факторами.
В XVIII веке у лезгин, табасаранцев, рутульцев, агульцев и цахуров существовало четыре формы земельной собственности: частно-крестьянская, общинная, вакуфная и феодальная.
Частно-крестьянская форма земельной собственности чаще всего обозначалась местным термином мулк. Все недвижимое имущество, которым владела индивидуальная семья, составляло мулк (постройки, орудия труда).
Процесс сосредоточения пахотных земель в подворном владении отдельных семей завершился у народов лезгинской группы задолго до XIX века[1]. Общинная форма владения и пользование пахотными полями, подобно тому, как это имело место в ряде мест Дагестана, в частности у кумыков, совершенно не встречались у лезгин. Не встречалась и смешанная форма владения и пользования пахотных земель нескольких селений и магалов.
Безраздельно господствовал подворный способ владения пахотными и сенокосными землями внутри сельской общины.
Индивидуальная семья осуществляла по отношению к своему мулку все права частной собственности (продажа, дарение, передача мечети, наследование в роде, плата за кровомщение). Жители южного Дагестана могли продавать свои пахотные и пастбищные земли (халиса-мулк) «кому хотят», не спрашивая ни у кого на то разрешения [2].
Как указано в документе того времени, в Самурской долине «пахотные, покосные, садовые, огородные участки и небольшие рощи, состоящие в пользовании и владении отдельных хозяев», составляли их мюльки, т. е. наследственную собственность каждого хозяина, которую наследовали в роде по шариату [3]—
В магалах Рича, Агул, Кошан жители свободно распоряжались своими пахотными и покосными землями без согласия сельского общества.
В узденских селениях Табасарана, так же, как и в агульских магалах, пахотные и сенокосные земли находились во владении индивидуальных семейств с правом передачи, продажи, завещания [4].
Продажа мюлька разрешалась только внутри данной сельской общины. В случае переселения какого-либо члена сельской общины на постоянное жительство в другое селение, он был обязан продать свой мюльк односельчанам, причем в таких случаях предпочтение в приобретении мюлька оказывалось родственникам переселившегося.
Общинная форма земельной собственности встречалась в феодальных владениях и в союзах сельских обществ. Общинные земли состояли из летних и зимних пастбищ, лесов.
Все члены сельского общества могли пользоваться пастбищами, выгонами, лесными участками на одинаковых правах. Однако на практике это право превращалось в фикцию для тех членов джамаата, которые не имели скота или имели его в небольшом количестве.
Как указывал К. Маркс, у пастушеских племен и народов собственность на скот являлась одновременно собственностью на землю, по которой они передвигаются. В Дагестане сельские общества ревностно охраняли принадлежащие его членам общинные земли. Если кто-либо из джамаата переселялся в другой аул, то терял право на общинные земли того селения, откуда переселялся[5].
Общинные земли могли быть сданы в аренду на основе решения сельского схода. Доходы с таких земель шли на удовлетворение так называемых «общественных» нужд. В не- закрепощенных феодалами сельских обществах джамааты выступали собственниками земель, иначе говоря общинных мюльков.
Говоря о земельных отношениях, нельзя не указать на интересную и своеобразную форму землепользования, издавна существовавшую у народов лезгинской группы. Речь идет о праве весенней и осенней пастьбы после сенокоса и уборки хлебов. По обычному праву овцеводы могли беспрепятственно пасти скот на мюльках после снятия урожая.
У народов лезгинской группы встречалась и смешанно-совместная форма владения и пользования общинными землями. Так, в Самурской долине, наряду с собственностью отдельных сельских обществ на пастбищные земли, встречалась так называемая магальная собственность, т е. собственность ряда селений на одни и те же земли[6]. Отдельные горные пастбища были объектом спора между селениями и до разрешения его находились в смешанном пользовании нескольких селений[7].
Возникновение в Дагестане мечетской или вакуфиой земельной собственности связано с распространением ислама. Источником вакуфной собственности на землю являлось добровольное завещание верующим в собственность мечетей своих пахотных и покосных земель. Верующие обращали в мечетскую собственность также мелкий и крупный рогатый скот, предметы домашнего обихода (ковры, паласы).
Количество мечетских земель, по сравнению с частновладельческими и общинными землями, было невелико. Однако ричинская мечеть в XVIII веке владела пастбищной горой «Сарфун-даг» площадью 1037 десятин[8].
Отличительной особенностью мечетской собственности на землю являлось то, что она не могла быть продана кому бы то ни было. Верующий, однажды сделав завещание, не мог взять его обратно. Земля передавалась в собственность мечетей навечно, что вело к постепенному экономическому усилению мечетей и крупного духовенства.
Мечеть отдавала земельные участки в аренду членам сельского общества на определенный срок. В узденских селениях Табасарана, Кошанском магале, например, мечетские земли духовенство преимущественно отдавало в аренду безземельным или малоземельным членам сельских обществ из расчета половины урожая [9].
В некоторых лезгинских селениях мечетскими землями распоряжался сельский сход и получаемые с этих земель доходы употреблялись на содержание мечетей и частично на оказание помощи обнищавшим членам сельского общества[10].
Завещанная земля оставалась в пользовании наследников завещателя до тех пор, пока были наследники. Когда наследников по мужской линии не оказывалось, тогда завещанная земля передавалась в распоряжение джамаата, который по жребию отдавал ее на шесть лет в аренду. Сельский сход размер платы определял исходя из величины земельного участка [11].
Феодальная форма земельной собственности являлась господствующей в феодальных владениях северного и южного Табасарана, Кубинского ханства, куда входило значительное число лезгинских селений. В указанных владениях ханы и беки сосредоточили у себя большие земельные массивы, основные зимние и летние пастбища.
В XVIII веке у народов лезгинской группы феодальная собственность на землю, исключая указанные выше феодальные владения, не стала господствующей. Господствующей формой земельной собственности у лезгин, агульцев, рутульцев являлась частно-крестьянская и общинная. Процесс феодализации, как и у других народов нагорного Дагестана, здесь не был завершен.
Когда союзы сельских обществ попадали под власть ханов, последние под разными предлогами захватывали общинные земли. Так, пастбищный участок Хпег или Хиниг площадью 463 десятины, находившийся в совместном пользовании селений Хпеж и Урсун Курахского магала, вследствие возникшего между ними спора был захвачен Сурхай-ханом. За жителями указанных селений было сохранено лишь право пастьбы скота после потравы пастбища ханскими стадами[12].
Пастбищная гора «Коказ» площадью 1074 десятины была захвачена Сурхай-ханом в конце XVIII века у Курахского общества[13]—
Жители маленького селения Квардал Ричинского магала юридически добровольно, а фактически под нажимом Сурхай-хана и его нукеров, вынуждены были предоставить летнее пастбище «Т1унарсу» площадью 1500 десятин в распоряжение хана [14].
Во второй половине XVIII века жители селения Буркихан попали в зависимость от кази-кумухских ханов, которые захватили у буркиханцев горные пастбища, обложили их тяжёлыми податями и налогами. Впоследствии ханы уступили земли и право взимания феодальной ренты родственникам бека [15].
На захваченные у сельских обществ земли ханы в ряде случаев сажали жителей. Например, селение Бурши-Мака было основано ханом из дворов переселенцев из одноименного лакского аула. В магале Ярки селение Цицер было основано Сурхай-ханом, который переселил сюда жителей из разных селений [16].
Феодальные владетели наделяли представителей сельской верхушки за «верную службу» большими земельными участками. Так, житель селения Нижний Стал Пир-Гасан получил от Сурхай-хана за службу ятаг для пастьбы овец[17].
Земельный участок «Кулардж» площадью 581 десятина был предоставлен ханом безвозмездно арсугскому старшине Коджар-Джамалу из влиятельного тухума Кошанского магала[18].
В 70—80 годах XVIII века Кюринская плоскость находилась под властью Фатали-хана Кубинского, который захватывал земли крестьян и облагал их тяжелыми податями и повинностями. Хан, рассматривая себя как верховного владетеля земель, передавал отдельные селения в управление бекам с правом собирания доходов с жителей. Так, селение Рукель было предоставлено ханом дербентскому наибу Хидир-беку, который стал притеснять жителей до такой степени, что они вынуждены были «искать покровительства» другого бека Иса-Кадия 39.
В селениях Рутул, Цахур, Кака находились беки. Какинские беки были выходцами из Кази-Кумуха, которые обосновались в селении Кака в конце XVIII века. Рутульские беки проживали в Рутуле примерно с конца XVI века (1574 г.).
Существовавшие в южном Дагестане сложные земельноправовые отношения определяли пестроту социальной структуры и различные формы эксплуатации непосредственных производителей.
Рамазанов Х.Х.,
доктор исторических наук, профессор
[1] ЦГА ДАССР, ф. 150, on. I, д. 17, л. 25.
[2] ЦГА ДАССР, ф. 2, оп. 3, д. 142 «з», лл. 70—71; д. 139 «а», л. 11.
[3] ЦГИА Груз ССР, ф. 231, on. 1, д. 370, л. 5; ЦГА ДАССР, ф. 2, оп. 3, д. 142, 3, лл. 70—71.
[4] ЦГИА Груз. ССР, ф. 231, on. 1, д. 370, л. 5; ЦГА ДАССР, ф. 150, оп.1, д. 4 «б», л. 37.
[5] ЦГА ДАССР, ф. 126, оп. 3. д. 60, л. 5.
[6] Записка о сословном и поземельном строе в Самурском округе, ЦГА ДАССР, ф. 2, оп. 3, д. 142, 3, лл. 70—73.
[7] Там же, л. 74.
[8] Описание находящихся в бывшем Кюринском ханстве земель или так называемых в народе ханских земель (1879).
.29 ЦГА ДАССР, ф. 150, on. 1, д. 4 «б», лл. 91, 96, 99.
[10] Там же, д. 17, л. 26.
[11] Там же, д. 4 «б», л. 37.
[12] ЦГА ДАССР, ф. 2, on. 1, д. 2, л. 3.
[13] Там же, ф. 134, on. 1, д. 2, л. 3.
[14] Там же.
[15] Там же, ф. 150, on. 1, д. 6, лл. 66—68.
[16] Там же, ф. 90, оп. 2, д. 20, л 71.
[17] ЦГА ДАССР, ф. 90, оп. 20, д. 2Э, л. 71.
[18] Там же, ф. 130, on. 1, д. 1, л. 3.