 Начало возрождения ислама в Дагестане казалось движением духовно-культурным и представлялось чем-то единым и далеким от внутреннего противостояния. Но вскоре в исламском движении обозначились два разных направления: одно из них получило название ваххабизма, а другое — тарикатизма. К середине 1990-х годов между ними возникли острые противоречия.
Начало возрождения ислама в Дагестане казалось движением духовно-культурным и представлялось чем-то единым и далеким от внутреннего противостояния. Но вскоре в исламском движении обозначились два разных направления: одно из них получило название ваххабизма, а другое — тарикатизма. К середине 1990-х годов между ними возникли острые противоречия.
Под тарикатизмом мы будем понимать общественно-политическую активность религиозных деятелей в Дагестане, которая связана с суфийскими братствами — тарикатами. Суфизм — чрезвычайно сложное и многообразное духовное (мистико-аскетическое) течение, существующее в исламских обществах на протяжении почти всей его истории. Не углубляясь в область многообразных теологических конструкций суфизма[1], отметим лишь определенные аспекты организационной структуры и социально-политических функций суфийских организаций.
Суфизм развивался, как правило, среди людей стихийно, вне прямого контроля властей, обслуживая их духовные запросы. Оставаясь в рамках исламской теософии, но в недрах самопроизвольного народного богоискательства, суфийская практика включила в себя культ предков, анимистические и магические представления. Образовавшиеся вокруг харизматического лидера в качестве неформальных объединений суфийские братства развивают особые богослужебные практики, являющиеся по своей сути психотехническими приемами индивидуальной и коллективной медитации. Все это обусловливает их своеобразие в каждом отдельном историческом периоде. Известны случаи ожесточенной конкуренции между различными школами суфизма и отдельными братствами в целях расширения своего влияния и вовлечения их в политическую борьбу. Есть исторические примеры, когда верхушка братства срасталась с правящим слоем, а само братство бюрократизировалось, приобретая черты формальной организации. Но были примеры и того, что идеология братства и организационная структура становились ядром повстанческого движения против местных владык или колониальные властей.
Тарикатское братство строится на представлении о передачи Божественной благодати (файз) от шейха к его приверженцам (мюридам). Сам шейх получает ее от своего предшественника, по его личному и непосредственному благоволению. Эта передача способностей благодати от шейха к избранному им последователю, который также становится шейхом, называется «иджаза», а цепочка передаваемых способностей творить благодать — силсилой (цепью). Поэтому каждый шейх должен знать всю сил- силу от него до пророка Мухаммеда, поскольку способность творить благодать обеспечивается только в случае сохранения непрерывности этой связи (силсилы) от шейха к шейху.
Важно, что в практиках суфийских течений (тарикатов) вполне допустимы различия, но в принципе между тарикатами не должно быть конфликтов. Один и тот же шейх может быть одновременно звеном в цепи разных тарикатов, но только в том случае, если он получил иджаз от шейхов этих тарикатов[2].
В Дагестане в настоящее время функционирует от 16 до 18 суфийских братств, принадлежащих к трем направлениям (тарикатам), — накшбандийа, шазилийа и кадирийа. Самым первым на территорию Дагестана проник тарикат накшбандийа в его так называемой халидийской разновидности. Он стал распространяться в начале XIX в. и послужил основой, как уже отмечалось, мюридизма — религиозной идеологии национально-освободительной войны горцев под руководством военно-политических вождей — имамов. К этому направлению принадлежали духовные вожди лидеров освободительного движения горцев — имамы Гази- муллы, Гамзат-бека и знаменитый имам Шамиль, шейхи Магомед Ярагский и Джамалудин Казикумухский.
Накшбандийский тарикат остается наиболее влиятельным и в настоящее время, но его нынешнюю практику относят к другому ответвлению накшбандийа – махмудийскому, оно близко к тарикату шазилийа, поэтому его иногда называют накшбандийа – шазилийа. Различия между старым и новым направлениями, насколько мы можем об этом судить, состоят в некоторых принципах учения и в ха- ракаере отношений духовного лидера со своими последователями. Для накшбандийа-халидийа условием вступления в братство является уже достигнутый кандидатом высокий уровень знания шариата и подобающий образ жизни. Тарикат в учении представителей этого направления является более высокой ступенью на пути к Богу. Исходя из этого, отбор мюридов (учеников), изъявивших желание вступить на путь тариката, был строгим, а отношения между шейхом и мюридом не выходили за рамки отношений между почитаемым носителем более глубоких знаний и стремящимся их перенять учеником. Современные же тарикаты накшбандийа – махмудийа и шазилийа – считают, что каждый мусульманин, даже с минимальными знаниями и низким уровнем праведности, обязан иметь духовного учителя. Наиболее влиятельный в настоящее время шейх этих двух тарикатов Саид-афанди Чиркеевский так обосновывает эту позицию: «Смысл слов, что тарикат можно принять лишь после изучения шариата, подобен совету идти к доктору, вылечив все свои болезни. Разве посещение врача не есть желание исцелиться от болезни? Разве здоровому человеку нужен врач после исцеления?»[3] Он подчеркивает, что учитель необходим каждому мусульманину. «Теми, кто самостоятельно делает ибадат [богослужебные обязанности мусульманина], в конце концов завладеет шайтан, т. е. этого человека шайтан обманет так, что он этого не заметит. Шайтан бросит его в кучу скрытых болезней сердца»[4].
В данной системе представлений тот, кто полностью познал шариат, как раз и не нуждается в учителе и может обойтись без шейха. Но поскольку утверждать, что ты достиг полного знания шариата и шариатского благочестия, не может, пожалуй, ни один из богобоязненных мусульман, то духовное попечительство шейха необходимо всем. В данной конструкции отношений внутри тарикатского братства шейх — это уже не просто уважаемый праведник и учитель исламских знаний, он путеводная звезда и спаситель заблудших, врачеватель душ, высший авторитет и посредник между простым верующим и Всемогущим. Отношения шейха с мюридами в новых тарикатах становятся сакральными. Этому есть социологическое объяснение.
В нынешних условиях, когда высокий ислам оказался почти полностью утраченным, новое учение в большей мере соответствует запросам общества. В прошлом следование нормам шариата в Дагестане было обычным требованием для каждого, а вступления на путь тариката, как более высокую ступень богослужения, чем обычная практика, заслуживали только наиболее выдающиеся ревнители на пути Божьем. Теперь же тарикат становится способом обращения, возращения на праведный путь.
Как уже было сказано, из числа ныне здравствующих самым авторитетным шейхом накшбандийского и шазилийского тарикатов является Саид-афанди Чиркеевский, аварец, 1937 г. рождения, проживающий в джамаате Чиркей Буйнакского района. Исламские знания он осваивал самостоятельно и арабский язык знает, как считают эксперты, в довольно ограниченных пределах. Он пишет свои работы на аварском языке. По мнению знатоков, его произведения свидетельствуют о выдающемся литературном даровании. Считается, что у него сейчас более 10 тыс. мюридов, главным образом среди аварцев, проживающих в Буйнакском, Кизилюртовском, Хасавюртовском, Шамильском, Гергебильском, Гумбетовском, Казбековском районах. Среди его почитателей есть высокие государственные чиновники и крупные предприниматели. С середины 1990-х годов все руководство ДУМД принадлежит к числу его приверженцев, хотя сам он не принимает непосредственного участия в общественных мероприятиях.
О взглядах Саид-афанди Чиркеевского на актуальную политическую проблематику свидетельствует, например, следующее его обращение: «Дорогие братья мусульмане! Смотрите не слушайте речи тех людей, которые говорят о необходимости свергнуть государственный строй и призывают к военным действиям (газавату). Разве не Аллах посылает плохих руководителей, когда плохим становится сам народ? Если мусульмане будут жить согласно шариату, Всевышний Сам избавит их от плохих руководителей»[5].
Перечислим и других тарикатских шейхов – наиболее известных деятелей Новейшего времени.
АКАЕВ Мухаджир, кумык, родился в 1933 г., проживает в с. Дургели Карабудахкентского района. Получил иджаза, т. е. право иметь мюридов. Статус шейха накшбандийа он получил от шейха Мухаммеда-Назима Киприси (с Кипра), когда тот в 1997 г. посетил Дагестан. У него до 500 мюридов.
БАБАТОВ Магомед-Мухтар, кумык, родился в 1954 г. в с. Параул Карабудахкентского района, проживает в поселке Кяхулай, который относится сейчас к Махачкале. Имам джума-мечети, шейх накшбандийа. Считают, что у него около 3 тыс. последователей, главным образом из числа кумыков (но есть и даргинцы), проживающих в поселке Кяхулай, а также в самой Махачкале и ее пригородах (Тарки, Альбурикент) и в городе Каспийске.
ГАДЖИЕВ Магомед-Гаджи, кумык, родился в 1954 г. в с. Каякент Каякентского района. Проректор исламского университета им. имама Шафии в Махачкале. Шейх тариката накшбандийа, у него до 1 тыс. сторонников, проживающих в родном Каякентском, а также в Карабудахкентском, Буйнакском, Ба- бюртовском и Хасавюртовском районах, в пригородных поселках Тарки и Хушет и в Махачкале.
ГАМЗАТОВ Арсланали, кумык, родился в 1954 г. в с. Параул, проживает в городе Буйнакске, где возглавляет исламский университет им. Сайфулла-Кади Башларова. Шейх ша- зилийа, последователь шейха Саид-афанди. Он является председателем Совета алимов ДУМД. У него около 3 тыс. мюридов, в основном это кумыки из родного Карабудахкент- ского района, а также в г. Буйнакске и Буйнакском районе.
ДУРГЕЛИНСКИЙ Пата-Магомед, кумык, родился в 1943 г., проживает в с. Дургели Ка- рабудахкентского района. Шейх накшбандийа, право иметь мюридов (иджаза) получил от Му
хаммеда-Назима Киприси (о. Кипр). У него до 100 мюридов.
ИЛЬЯСОВ Ильяс-Хаджи, кумык, родился в 1947 г. в с. Аданак Карабудахуентскoгo района, имам мечети «Сафар» в Махачкале. Шейх накшбандийа, последователь шейха Магомед- Гаджи Гаджиева. Он имеет около 200 мюридов, проживающих в родном Карабудахкентском районе и поселках Махачкалы – Альбурикенте и Ленинкенае.
ИСРАФИЛОВ Серажудин (Хурикский), табасаранец, родился в 1954 г. в с. Хурик Табасаранского района, проживает в Дербенте. Шейх накшбатдийа. Наиболее влиятельный шейх в Южном Дагестане. Он имеет, как утверждают некоторые эксперты, до 8 тыс. мюридов среди табасаранцев и лезгин в Табасаранском, Хивском, Сулейман-Стсльском и Ахтынском районах.
КАДЫРОВ Бадрудин (Ботлихский), аварец, родился в 1919 г. в с. Ботлиха Ботлихского района. Шейх накшбандийа и шазилийа, имевший до 3 тыс. последователей, живущих в родном Ботлихском, а также в других аварских районах – Ахвахском и Хунзахском. Умер в 2003 г.
КАЗИМАГОМЕДОВ Рамазан (Гимринский), проживает в родном джамаате имама Шамиля Гимры. Шейх накшбандийа.
КАКАМАХИНСКИЙ Абдулвахид-афанди, даргинец, родился в 1933 г., живет в своем джамаате Какамахи. Шейх шазилийа, последователь Саида-Аффанди Чиркеевского. Имеет до 100 мюридов.
КАРАЧАЕВ Муртазали, кумык, родился в 1949 г. в Тарки. Ректор исламского университета им. имама Шафии в Махачкале. Шейх накшбандийа, получивший иджаза, т. е. право
иметь учеников, от Мухаммеда-Назима Ки- приси, когда тот в 1997 г. посетил Дагестан. Имеет 200 мюридов.
КУРБАНОВ Магомед, аварец, родился в 1944 г. в с. Инхело Ботлихского района. Сменил шейха Батрудина Кадырова (Ботлихского). Шейх накшбандийа и шазилийа.
МАГОМЕДОВ Абдулвахид, аварец, родился в 1950 г. Имам одной из махачкалинских мечетей. Иджаза, т. е. право иметь учеников, получил от шейха накшбандийа Мухаммеда-Назима Киприси. Имеет 300 мюридов.
РАБАДАНОВ Магомед, даргинец, родился в 1958 г., проживает в с. Ново-Костек Хасавюртовского района. Имам местной мечети. Шейх накшбандийа, последователь покойного шейха накшбандийа Тажудина Хасавюртовского (Рамазанова). Имеет до 1 тыс. мюридов.
РАМАЗАНОВ Газимагомед, аварец, родился в 1948 г. в с. Гимры Унцукульского района. Шейх накшбандийа. Имеет до 100 мюридов в своем джамаате Гимры.
ТАЖУДИН Хасавюртовский (Рамазанов), аварец, родился в 1919 г. Выходец из джамаата Карата Ахвахского района, проживал в Хасавюрте. Шейх накшбандийа. Имел до 3 тыс. мюридов, проживавших в г. Хасавюрте, Хасавюртовском, Ахвахском и Цумадинском районах, а также среди переселенцев из этих мест, проживающих в Кизилюртовском районе. Умер в 2001 г.
РАМАЗАНОВ Магомедхабиб (Ботлихский), аварец, родился в 1947 г. Проректор Исламского университета им. Саидбека Даитова в Хасавюрте. Шейх тариката кадирийа. Имеет до 1 тыс. мюридов.
ТАГИРОВ Гамбулат (Муцалаульский), аварец, родился в 1944 г., проживает в с. Муцалаул Хасавюртовского района. Шейх накшбандийа-мухамадийа, ученик покойного шейха Тажудина Хасавюртовского. Имеет 500 мюридов.
В Дагестане есть также мюридские братства приверженцев давно умерших шейхов. Много приверженцев шейхов тариката кадирийа Кунта-Хаджи Кишиева (умер в 1867 г.) и Вис-Хаджи Зангиева среди чеченцев Хасавюртовского и Новолакского районов. В аварском джамаате Обода Хунзахского района действует братство последователей почившего более 100 лет назад шейха Магомеда из Обода. Есть последователи видного исламского деятеля периода Гражданской войны, выступавшего на стороне советской власти, шейха накшбандийа-халидийа даргинца Али-Гаджи Акушинского, умершего в 1930 г., а также шейха Амая, умершего в 1930-е годы, и других, еще недавно известных только в очень узком кругу их приверженцев.
Обратимся теперь к характеристике дагестанского ваххабизма. Ваххабитами в научной и публицистической литературе принято считать последователей религиозно-политического течения в суннитском исламе, возникшего в середине XVIII в. на основе учения Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба[6]. Не будем подробно останавливаться на этом движении, сильно удаленном от нас исторически и географически, укажем лишь, что его сторонники проповедовали:
1) строжайшее соблюдение принципа единобожия (таухида[7]);
2) отказ от поклонения людям, которых считают по тем или иным причинам «наделенными Аллахом особыми способностями», «святыми» (вали), способными совершать чудеса (карамат[8]);
3) отказ от поклонения могилам или другим сакральным предметам и местам (зиярат[9]);
4) очищение ислама от поздних нововведений (бид’а[10]).
Нет сомнений, что эти позиции отстаивали и дагестанские ваххабиты, но большинство участников этого движения в Дагестане предпочитают называть себя членами исламского джамаата, сообществом мусульман (джамаат ал-муслимин) с формой обращения друг к другу — брат (ихван). При всей проблематичности термина «ваххабиты», на наш взгляд, не стоит от него отказываться применительно к современной северокавказской реальности по той простой причине, что именно эти слова уже стали неотъемлемой принадлежностью современного общественно-политического дискурса в Дагестане, да и в России, относительно данного движения.
Иногда можно встретить характеристику ваххабитов как oртoдoксoв-футдаменталистов, стремящихся вернуть религию ко временам праведных предков. Однако все намного сложнее. Они действительно заняты восхвалением «первоначального ислама», однако важнейшим для оценки сути этого течения должно быть то, что вся эта проблематика ставится ими с позиций современности. Они ищут и находят, как им кажется, в чистом исламе программу разрешения современных проблем. Во всяком случае, дагестанский ваххабизм не был догматической реакцией на преобразующийся ислам, скорее наоборот, движение тарикатского и традиционного ортодоксального ислама стало политической силой в Дагестане, консервативной по отношению к росту нового по своей социальной природе ваххабитского исламского движения. Тарикатисты объявили ваххабизм новшеством (бид’а) или даже вообще не исламом, а подделкой под него.
Обычно считают, что дагестанский ваххабизм появился в середине 80-х годов ХХ в., и это действительно так, если исходить из фактов, которые стали получать открытое общественно-политическое звучание в ходе перестройки. Однако истоки этого движения можно обнаружить еще в 70-е годы ХХ в., когда стали появляться первые подпольные группы «новых» мусульман, доставлявших тогда немалые хлопоты службам КГБ. Корни этого движения в городах и урбанизированных сельских регионах Дагестана среди представителей наиболее модернизированной части местного населения, получившего современное профессиональное образование.
Наиболее заметное распространение ваххабизм приобрел в Махачкале, особенно в его пригороде — Хушете, а также г. Кизилюрте и Кизилюртовском районе, куда за последние 30 лет осуществлялось массовое переселение жителей горных регионов, особенно в селения Кироваул, Старое и Новое Миатли и др. Относительно много ваххабитов оказалось также в Хасавюрте и Хасавюртовском районе, который также благодаря переселениям радикально изменился в демографическом отношении. Ваххабиты приобрели там большое влияние в с. Первомайское, Муцалаул, Теречное и Советское. Большое число их в Казбе- ковском районе (Инчха и Гертма). Приверженцы ваххабизма активно действовали в г. Буйнакске и Буйнакском районе, в Кадарском союзе джамаатов (Карамахи, Чабанмахи и Чанкурбе) и в Буглене, в Карабудахкентском районе (Губден и Манас), Дербентском районе (Белиджи, Хпедж), а также по всему Южному Дагестану, где исламская традиция за годы советской власти почти полностью утратила свои позиции.
Очаги ваххабитов сложились в ряде аварских горных районах, выходцы из которых были переселенцами: в высокогорных джамаатах Цумадинского и Ботлихского районов, в Гунибском районе — в джамаатах Кудали и Согратль.
Общее число ваххабитов, по данным социологических опросов и экспертных оценок, относящимся к периоду, предшествовавшему их юридическому запрету в сентябре 1999 г., составляло не более 3—6% общего числа дагестанцев, ориентирующихся на исламские ценности.
Наиболее видным представителем ваххабитов в Дагестане был Ахмад-кади Ахтаев. Он родился в 1942 г. в горном джамаате Кудсли Гунибского района вскоре после гибели на фронте своего отца. Как и положено, с 7 лет пошел учиться в общеобразовательную школу, с 10 лет начал изучать Коран. По окончании школы поступил в медицинский институт в Махачкале, который закончил с отличием. Студенческие годы Ахтаева совпали с новой, хрущевской волной агрессивной атеистической кампании, однако ему удалось парсл- лельно с овладением специальностью совершенствоваться в освоении исламских наук. Знавшие его утверждают, что он очень глубоко изучил арабский язык и достиг высокого уровня мусульманских знаний.
В 1990-е годы А. Ахтаев был участником многих международных мусульманских форумов и пользовался большим авторитетом среди исламских деятелей. В июне 1990 г. на съезде мусульман СССР в Астрахани Ахмад- кади Ахтаев был избран председателем Исламской партии возрождения. После распада страны и раскола в ИПВ он создает общероссийскую культурно-просветительскую организацию «Аль-Исламия». В апреле 1992 г. был избран от Гунибского района народным депутатом Верховного Совета Дагестана. Его взгляды признаются ваххабитскими, однако он никогда не вступал в открытую полемику ни с властями, ни с тарикатскими деятелями и стремился не допустить раскола между мусульманами. Его авторитет не позволял также и тарикатским деятелям открыто критиковать его. Он неизменно осуждал исламский радикализм, а незадолго до своей смерти в выступлении по дагестанскому телевидению в феврале 1998 г. резко осудил нападение ваххабитов на воинскую часть в Буйнакске, совершенную в декабре 1997 г. Вскоре, в марте 1998 г., А. Ахтаев скоропостижно скончался в родном джамаате Кудали.
Получилось так, что подчеркнуто примирительная и политически нейтральная, просветительская позиция Ахмад-кади Ахтаева была взята на вооружение наиболее радикальными исламистами. Многие последователи Ахтаева после его смерти перешли на сторону непримиримого и бескомпромиссного противника тарикатистов Багаудина Кебедова и встали на путь вооруженной борьбы с режимом. Созданные Ахтаевым организации «Исламское движение Кавказа» после его смерти присвоил идеолог чеченского сепаратизма Залимхан Яндарбиев, а «Аль-Исламия» досталась, «по праву родственной связи», радикальному исламисту Сиражудину Рамазанову, которого во время вторжения в Дагестан боевиков в августе 1999 г. объявили «председателем исламского правительства Дагестана».
Поскольку новое исламское направление затронуло различные социальные слои населения, следует в самом обобщенном виде выделить некоторые типы ваххабизма.
Ваххабизм бедных. Этот тип ваххабизма получил наибольшее распространение в джамаатах горного Дагестана. Обнищавшее горское крестьянство находило в нем идеологическое и моральное основание для отказа от обременительных, разросшихся при социалистическом строе, дорогостоящих «народных» традиций и обычаев, которые в новых условиях становились невыносимыми. Кроме того, новая позиция давала возможность оставаться мусульманином и вместе с тем не интегрироваться с новыми порядками. Ваххабизм давал обоснование демонстративного протеста против новых порядков и религиозно санкционированного выхода отчаяния перед лицом обрушившихся невзгод.
Ваххабизм богатых. Данный тип ваххабизма сложился в ряде крупных селений предгорной и равнинной частей Дагестана, в которых ислам сохранил довольно крепкие позиции. Это прежде всего Кадарский джамаат (селения Чабанмахи, Чанкурбе), Губден и несколько крупных селений аварцев-переселенцев в равнинных Кизилюртовском и Хасавюртовском районах. Жителям этих селений, расположенных вблизи городов и магистральных путей сообщения, удалось благодаря инициативе и взаимной поддержке успешно интегрироваться в рыночную экономику. Идеология ваххабизма позволяла им индивидуализировать исповедание веры, освободиться от навязанного вмешательства религиозного авторитета. Кроме того, сильной угрозой для этих джамаатов становилось развращающее молодежь вторжение новых ценностей и нового стиля жизни, а также вмешательство в их дела государства в лице коррумпированных чиновников. Стремление отстоять свой привычный образ жизни и самоуправление, освободиться от внешнего контроля и не утратить внутреннее единение джамаата вызвало необходимость в ином, нетрадиционном исламе. Ваххабизм здесь стал идеологией изоляции от внешнего воздействия и противостояния деморализующему влиянию западных ценностей.
Для полноты картины помимо этих двух основных типов ваххабизма следует выделить еще два.
Ученый ваххабизм. К этой категории относятся те, кто стремился рационально осмыслить ислам. Религиозный авторитет, основанный на мистических принципах, не мог их удовлетворить, не устраивали их также истолкования, которые давались носителями религиозной традиции, не получившими современного образования. Кроме того, многие представители дагестанской верующей молодежи, успевшей получить качественное религиозное образование в исламских университетах Востока, не могли относиться с уважением к доморощенным служителям культа. Многие из них не видели в традиционные шейхах и сли- мах религиозных авторитетов.
Интеллигентский ваххабизм. Часть современной дагестанской интеллигенции, полностью утратившая в советских школах и вузах связь с исламской традицией, лишенная в новой ситуации идеологических устоев и уже не способная в силу своего образования и воспитания обратиться к «фольклорному» исламу, находила в ваххабизме идеологическую отдушину. В их представлениях ваххабитский ислам с его принципами трансцендентального единобожия и отказа от поклонения всем земным авторитетам позволяет мусульманину не соблюдать довольно обременительные ритуалы:, не требует строгой духовной опеки со стороны земных авторитетов. В этой связи вполне правомерно сопоставление современного ваххабитского движения в Дагестане с движением протестантизма в Западной Европе в известный период истории.
Наиболее активным деятелем радикального крыла ваххабитов был Багаудин Кебедов (Багаудин Магомед, Багаудин Кизилюртовский). Он родился в 1945 г. в селении Ведено в Чечне. Его семья оказалась там, когда чеченцев в 1944 г. депортировали из родных мест, а в их дома целыми селениями насильно переселили горцев Дагестана. В их числе были и жители хваршинского селения Сантлада Цумадинского района, откуда родом родители Багаудина и его брата Аббаса Кебедова — другого видного исламского деятеля. Семью Багаудина отличали прочные исламские традиции. Среди его предков — известные шейхи, сам он учился в подпольных медресе, совершенствовал исламские знания, в частности, в аварском селении Саситли у известного алима Хайбуллы Аюбова. Когда ему было 12 лет (в 1957 г.), чеченцам разрешили возвратиться на родину, а дагестанцы были вновь переселены в Хасавюртовский, Кизилюртовский и другие районы Дагестана. Хваршинцев, в том числе из Сантлада, поселили в новообразованном селении Первомайском Хасавюртовского района. Здесь в начале 1960-х годов Багаудин организовал свой первый тайный кружок обучения исламу. Ко времени горбачевской перестройки Багаудин жил в Кизилюрте, где создал свою общину (джамаат). В начале 1990-х годов он совершил хадж, прошел курс обучения в университете Ал- Асхар в Египте и приобрел связи с другими исламскими центрами за рубежом. По возвращении начал преподавать в созданном им еще в 1989 г. медресе в Кизилюрте на 700 студентов.
Его сторонники действовали и в Махачкале в исламском центре «Кавказ» , который выпускал газету «Халиф» . Багаудин — активный публицист из числа ваххабитов , е го перу принадлежит много работ, изданных в издательстве «Сантлада» . Широкую известность он получил благодаря видеозаписям своих проповедей и выступлений на диспутах 1992- 1996 гг.
Когда началась первая чеченская война, Багаудин начал призывать к джихаду, а в конце 1997 г., после нападения боевой группировки ваххабитов на военную базу российских войск в Буйнакске ему с группой из 18 последователей пришлось «совершить хиджру», как об этом заявлял он сам, т. е. бежать из Дагестана и переселиться в Чечню. Здесь Багаудин обосновался в Урус-Мартане, где располагался штаб Хаттаба, и встретил поддержку со стороны Удугова, Яндарбиева и Басаева. В апреле 1999 г., готовясь к «освободительному» вторжению боевиков на свою родину, Багаудин создает «Исламскую армию Кавказа». Нападение боевиков на Дагестан в августе 1999 г. полностью дискредитировало Багаудина в глазах дагестанцев, и в настоящее время он разыскивается как преступник.
Багаудин – наиболее активный критик тарикатистов. Достаточно полное представление о его позициях можно получить по его статье «Мы призываем всех мусульман к единобожию». Поскольку текст имеет много цитат из Корана и сакраментальных оборотов речи, принятых в исламской традиции, перескажем суть его аргументаций[11].
Он выдвигает против суфистов шесть тезисов.
1. Тарикатисты считают, что их шейхи знают тайны. Но это противоречит Корану. Во множестве аятов указывается, что тайное ведомо только Ему, а пророки узнают только то, что им сообщил Аллах. Таким образом, суфисты наделяют своих шейхов качествами Бога.
2. Тарикатисты утверждают, что между Аллахом и простыми смертными обязательно должен быть шейх. Но это противоречит Корану. Не может быть посред
ников между человеком и Богом, в исламе нет священников, которые могут прощать грехи верующим.
3. Тарикатисты утверждают, что их шейхи застрахованы: от ошибок, не грешат и непосредственно управляются Богом. Это не соответствует исламу. Застрахованным от ошибок Аллах сделал лишь пророка Мухаммеда, ибо Он на Себя взял ответственность за его грехи.
4. Если люди отвернутся от своих шейхов, то они потеряют свое положение, свой авторитет и личные блага. Боясь этого, они считают нас врагами, называя ваххабитами, и ведут с нами борьбу.
5. Власть сотрудничает с тарикатистами и не дает нам выходить к общественности через печать и другие СМИ, объясняя это тем, что наши взгляды не соответствуют традиционному исламу. Хотя именно наши взгляды соответствуют исламу.
6. Тарикатисты препятствуют нашему выходу в СМИ потому, что за нами, как они сами об этом говорят, тогда пойдут все верующие[12].
Первые столкновения между ваххабитами и тарикатистами регистрируются в ряде мест начиная с 1991 г., а первые публичные диспуты между ними стали происходить в 1993 г. Они проводились в Махачкале, Хасавюрте, Кизилюрте, Каспийске и ряде селений. До середины 1990-х годов их противостояние не оказывало воздействия на власть. Только с 1996 г., с приходом к руководству ДУМД Саидмагомеда Абубакарова, противостояние ваххабитов и тарикатистов превратилось в серьезный фактор политической жизни республики. В многотиражных газетах стали публиковаться статьи видных представителей ДУМД с резкой критикой ваххабитов. Противостояния между ваххабитами и тарикатистами наблюдались и в ряде джамаатов. Часто в ходе исполнения обычных ритуалов возникали острые споры, доходившие до столкновений, в ряде мест даже вооруженных. Большой резонанс вызвало кровопролитие в Чиркее в декабре 1995 г., в марте 1996 г. произошли столкновения в селении Кванада.
Наибольший резонанс вызвала деятельность ваххабитов в селениях Карамахи-Чабанмахи. Там ваххабиты приобрели столь большое влияние, что полностью взяли под свой контроль жизнь в джамаате и в конце концов даже вышли из подчинения органам власти. Образование независимого анклава, управляемого шариатскими законами, в центре Дагестана оказало тогда сильное влияние на ход внутриполитической борьбы. По всей видимости, успех карамахинских ваххабитов спровоцировал решение чеченских сепаратистов вторгнуться в августе 1999 г. в Дагестан под знаменем ислама.
Первоначально все выглядело безобидно. Еще в 1992 г. в Карамахи поселился алим из Иордании, который, получив покровительство одной из местных семей, принялся за религиозное образование молодежи. Разумеется, его ислам, привезенный издалека, был не похож на то, что знали и считали правильным местные религиозные авторитеты. Заграничный ислам стал приобретать популярность среди сельской молодежи, но первоначально это не только не встречало сопротивления сельчан, но даже и поощрялось, поскольку интерес к исламу среди юношей отвращал от массы новых соблазнов, обрушившихся на их головы. Ситуация стала проблемной в конце 1994 — начале 1995 г. К этому времени население Карамахи разделилось «на два враждующих лагеря, когда сын готов был убить отца, если тот не перейдет к ваххабитам, когда брат пошел на брата»[13]. Существенную роль в росте напряжения сыграла начавшаяся война в Чечне. Но после ее завершения, летом 1996 г., когда участники боевых действий стали возвращаться домой, население Карамахи и Чабанмахи оказалось уже окончательно расколотым. Карама-хинские вахабиты усилили свое влияние на джамаат, боевая и идеологическая подготовка молодежи, которая ранее проводилась на территории Чечни, стала проводиться непосредственно на территории Карамахи.
Первый вырвавшийся наружу конфликт произошел в июне 1996 г., когда обсуждался вопрос о переизбрании кадия карамахинской мечети. За этим последовало новое кровопролитие — в сентябре 1996 г. В конфликт втягивались, становясь на ту и иную сторону, также и представители власти. Известный моджахед Хаттаб, взяв осенью 1996 г. в жены дочь одного из своих сподвижников из числа местных жителей, стал частым гостем в Карамахи, и ваххабиты начали получать большую помощь оружием и деньгами. Новые кровавые столкновения жителей произошли здесь 12 мая 1997 г. Тогда общее число участников вооруженного столкновения достигало 500— 600 человек. Напряженное противостояние длилось несколько дней, в нескольких местах произошли локальные вооруженные столкновения с человеческими жертвами, пока в результате многодневных переговоров с участием высшего руководства республики не удалось убедить стороны подписать соглашение о мирном урегулировании конфликта.
Характер конфликта и сам факт заключения мирного соглашения властей с ваххабитами одного селения свидетельствовали, что они добились признания. Только ДУМД оставалось непреклонным противником всяких соглашений с ними. Один из наиболее авторитетных тарикатских шейхов, председатель Совета алимов ДУМД Арсланали-эфенди Гамзатов заявил тогда: «Кто думает, что ваххабизм – проблема только Карамахи, тот ошибается. Скоро он проникнет и в его дом. Сейчас хотят представить конфликт в Карамахи как столкновение ваххабитов и тарикатистов. Это глубокое заблуждение — ваххабиты воюют против всех мусульман, просто противостояли им сейчас одни мюриды»[14]. С этого времени проблема ваххабитов превратилась в одну из самых важных и широко обсуждаемых в республике тем.
Сильное общественное звучание имел публичный диспут между деятелями тарикатского ислама и ваххабитами, состоявшийся в Махачкале вскоре после указанных событий в Карамахи 27 мая 1997 г. Он широко освещался и обсуждался в СМИ республики. 22 декабря 1997 г. боевики напали на дислоцированную в Буйнакске российскую воинскую часть. Как показало расследование, его совершили дагестанские ваххабиты. Начались аресты наиболее активных из них. В Махачкале ликвидировали исламский центр «Кавказ», а его председателя, выходца из Карамахи, Мухаммад-шафи Джангишиева арестовали, многих ваххабитов задерживали и допрашивали. Репрессии, которые затронули прежде всего ваххабитов Кизилюртовского и других районов, т. е. сторонников Багаудина, но почти не коснулись карамахинцев, вызвали массовое бегство ваххабитов в Чечню.
Новые столкновения произошли в Карамахи-Чабанмахи через год, в мае 1998 г., когда местные ваххабиты захватили местное отделение милиции, изгнали со своей территории представителей официальных властей и объявили ее «освобожденным исламским районом с шариатским управлением». Тогда велся настоящий бой с милицией, прибывшей из Буйнакска; с каждой стороны участвовали сотни человек. Несколько дней шли боевые действия, но сломить сопротивление ваххабитов не удалось. Пришлось вновь начать с ними переговоры о разведении вооруженных сил, обмене пленными, разблокировании автодороги и т. д. С этого времени ни у кого не осталось сомнений, что в Дагестане возник анклав, способный в случае необходимости защищать себя силой оружия. А в августе 1998 г. «карамахинская коммуна» объявила, что будет досматривать все автомобили, проезжающие мимо их сел в сторону гор и обратно – на равнину. Но и эти крайние меры на них не подействовали. Власти ничего не могли достичь мирными средствами, а решиться на вооруженное подавление сплоченного и хорошо вооруженного «ваххабитского эмирата» были не способны. Дело в том, что противостояние среди правящих в республике этнопартий было тогда более важным и опасным для них.
Сразу за этим, 21 августа 1998 г., последовал террористический акт, направленный против муфтия Дагестана; председатель ДУМД С. Абубакаров был убит взрывом бомбы во дворе соборной мечети в Махачкале. Это чудовищное преступление, как ни парадоксально, вызвало не обострение конфликта между тарикатистами и ваххабитами или между республиканской властью и вышедшим из подчинения ваххабитским джамаатом, а крайне острое противостояние между наиболее влиятельными в республике правящими группировками. Но и этот политический конфликт удалось урегулировать в течение нескольких дней, так что все осталось в том же напряженном состоянии — «карамахинская коммуна» сохранила свою независимость от властей, а во власти сохранился тот же напряженный паритет сил противостоящих друг другу этнических группировок.
Независимость Карамахи-Чабанмахи просуществовала еще ровно год — до вторжения вооруженных формирований с территории Чечни в Дагестан в августе 1999 г. За это время ваххабитский анклав приобрел почти все внешние атрибуты суверенитета; у них были свои органы власти, законы, суд и тюрьма, свои вооруженные силы и генералы, печать и телевидение. Они охраняли свои границы, без их разрешения никто не мог к ним въехать. В специальных лагерях близ селений проводилось обучение молодежи, приезжавшей из разных регионов республики. Обучавшиеся (талибы) жили в палатках недалеко от селения, их хорошо кормили и одевали. На первой фазе обучения продолжительностью не более месяца учащиеся проходили исключительно морально-политическую подготовку, их обучали ритуалам ислама; юноши обучались молитве, заучивая наизусть необходимые для этого суры. После завершения идеологического образования талиб имел право определиться, будет ли он продолжать подготовку или завершит обучение. В том случае, если принималось решение продолжить образование, он переходил к военному обучению и, связанный присягой, уже не мог по своему желанию покинуть подразделение. Обучение проводили выходцы из исламских стран, деньги на обучение и содержание также поступали из стран Востока.
Ваххабитский анклав в Дагестане был уничтожен в ходе войны со вторгшимися 2 августа в Дагестан из Чечни моджахедами. 29 августа 1999 г. против них началась войсковая операция, длившаяся до 21 сентября. Известно, какие трагические события сопровождали вооруженное подавление «карамахинского эмирата». 4 сентября был взорван пятиэтажный жилой дом военных в Буйнакске, погибли 64 человека и более 80 были ранены. На следующий день с целью поддержки карамахинцев в Новолакский район Дагестана вторглись отряды чеченцев общей численностью до 2 тыс. человек, открыв еще один фронт кровопролитных боевых действий. 11 сентября в Москве на улице Гурьянова был взорван дом – погибли 90 человек, 13 сентября другой взрыв 9-этажного дома на Каширском шоссе угес 118 человеческих жизней, а 16 сентября, в день объявления окончания операции в Карамахи- Чабанмахи, произошел взрыв дома в Волгодонске.
В тот же день, 16 сентября, дагестанский парламент принял закон о запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности, начались массовые аресты ваххабитов. С этого времени идеология и организационные структуры тарикатского ислама были официально признаны, а ДУМД начало превращаться в организацию, ведающую исповедальной стороной жизни всех дагестанских мусульман.
Кисриев Э.Ф.,
кандидат философских наук,
социолог
Литература
Суфизм имеет более 1000-летнюю историю в Дагестане (ВИДЕО)
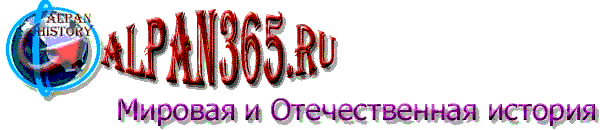
Да, ислам многолик!Как впрочем и все другие религии.