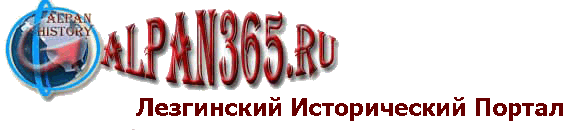Михаил Горбаневский
Тайна названия Москвы
 История Москвы изучена сравнительно полно: сотни книг, научных и популярных статей рассказывают нам о том, какой столица была в далеком прошлом, как жили и чем занимались в ней люди. Мы знаем уже немало о ремеслах, быте, искусстве, языке древней Москвы. А вот тайна названия города и по сей день остается нераскрытой: в отличие, например, от археологов, которые входят в непосредственный контакт с прошлым, лингвисты, работающие над разгадкой топонима Москва, находятся в более сложном положении… Правда, топоним Москва в этом смысле не исключение. История происхождения названий таких крупных и старинных европейских городов, как Прага, Берлин, Лондон, Париж или Лиссабон, тоже не выяснена окончательно. Существует масса гипотез, предлагающих тот или иной вариант происхождения этих названий и их значений, но ни одну из них не считают наиболее убедительной и точной.
История Москвы изучена сравнительно полно: сотни книг, научных и популярных статей рассказывают нам о том, какой столица была в далеком прошлом, как жили и чем занимались в ней люди. Мы знаем уже немало о ремеслах, быте, искусстве, языке древней Москвы. А вот тайна названия города и по сей день остается нераскрытой: в отличие, например, от археологов, которые входят в непосредственный контакт с прошлым, лингвисты, работающие над разгадкой топонима Москва, находятся в более сложном положении… Правда, топоним Москва в этом смысле не исключение. История происхождения названий таких крупных и старинных европейских городов, как Прага, Берлин, Лондон, Париж или Лиссабон, тоже не выяснена окончательно. Существует масса гипотез, предлагающих тот или иной вариант происхождения этих названий и их значений, но ни одну из них не считают наиболее убедительной и точной.
Интерес к названию столицы России вполне закономерен. Рост этого интереса связан с тем большим значением политического, научного и культурного центра, каким является Москва для нашей страны, а также на международной арене. Какими же путями шли и идут различные исследователи в попытке решить проблему истории названия столицы, какие легенды и версии были известны в прошлом, какие гипотезы предлагаются советскими и зарубежными учеными сейчас, в наше время?
Первое упоминание о Москве (речь идет об Ипатьевской летописи) относится к 1147 году.Однако археологи давно уже доказали, что укрепленное поселение на месте исторического центра современной Москвы существовало задолго до 1147 года. А для ученых-лингвистов эта дата является самой древней документально зафиксированной точкой отсчета истории названия столицы. Действительно, именно в 1147 году, 4 апреля, в маленьком укрепленном поселении, в крепостце, затерянной в непроходимых лесах, состоялась встреча суздальского князя Юрия Долгорукого с север-ским князем Святославом Ольговичем. Именно его, как свидетельствует, летопись, пригласил князь Юрий на встречу в Москву: «И шед Святослав и взя люди голядь верх Поротве. И тако ополонишася дружина Святославля, и прислав Гюргии (Юрий. — М. Г.) рече: приди ко мне брате в Москов».
Сейчас трудно сказать, был ли этот топоним названием только города или же относился и к более широкой территории, к местности, в которой выросла крепость Москва. Очевидно другое: в основе топонима лежит гидроним, название реки Москвы. Есть об этом запись в памятнике письменности XVII века, в повести «О начале царствующего великого града Москвы». Несмотря на надуманность исторических обстоятельств, в которых, согласно этой повести, город получил свое название, в ней есть рациональное зерно: «…(Князь) взыде на гору и обозрев с нее очима своими семо и овамо по обе стороны Москвы-реки и за Неглинною, возлюби села оныя и повелевает на месте том вскоре соделати мал древян град и прозва его званием реки тоя Москва, по имяни реки, текущия под ним».
Многие русские города получили свои имена по рекам, на которых они были выстроены. При этом обычно имена рек приобретали впоследствии во избежание омонимии уменьшительную форму. Так, скажем, река Коломна стала Коломенкой, а река Орел —Орликом. С рекой Москвой вышло по-иному: в ее имени вместо уменьшительного суффикса закрепилось слово река: Москва-река. Любопытно и то, что в некоторых памятниках письменности город Москва упоминается при помощи описательного выражения «на Москве», то есть «город на Москве-реке».
Теперь попробуем рассмотреть наиболее известные и наиболее аргументированные гипотезы о происхождении гидронима Москва. Какой народ, какое племя дало название красавице Москве-реке?
Интерпретация названия Москва как слова, принадлежащего одному из языков финно-угорской языковой семьи, была одной из первых гипотез и имела много сторонников. Обращение к языкам этой семьи вполне логично, поскольку археологически (в результате раскопок поселений, в частности, городищ и селищ дьяковской культуры раннежелезного века, в основе своей являющейся финно-угорской) вполне объективно доказывается, что на определенном историческом этапе в бассейне Москвы-реки жили племена, говорившие на языке финно-угорской языковой семьи.
Объясняя название Москва на такой основе, обычно исходят из того, что этот гидроним легко членится на два компонента: моск-ва, подобно названиям северно-уральских рек типа Лысь-ва, Сось-ва, Сыл-ва, Куш-ва и др. Элемент —ва легко объясняется во многих финно-угорских языках (например, в мерянском, марийском, коми) как «вода», «река» или «мокрый». Объяснение же основного компонента моск— вызывает у финно-угроведов серьезные затруднения. Точно он не может быть выведен ни из одного из финно-угорских языков, а приблизительно из многих и по-разному.
Из коми языка моск— можно объяснить, связав его со словами моск, моска, что значит «телка, корова». (Интересно, что подобный принцип называния встречается в топонимии, и не только в нашей стране; вспомним город Оксенфурт в Баварии и Оксфорд в Англии, оба этих топонима означают «бычий брод».) Это предположение горячо поддержал известный русский историк В. О. Ключевский, что придало гипотезе особую популярность. Однако скоро несостоятельность объяснения гидронима Москва из коми языка стала явной: коми никогда не жили на территории, близкой к течению этой реки. К тому же между североуральским ареалом рек на -ва и московским ареалом (Москва, Протва, Смедва и др.) на протяжении нескольких тысяч километров аналогичных по структуре названий не встречается!
Географ С. К. Кузнецов, владевший многими финно-угорскими языками, предложил объяснить моск— через мерянское слово маска — «медведь», а элемент —ва как ава, что значило по-мерянски «мать, жена». Получалось, что Москва-река — это Медвежья река или река Медведица, причем это название должно было, вероятно, носить тоте-мический характер. Историческая основа для такого предположения есть. «Повесть временных лет», самая древняя русская летопись, указывает, что в середине IX века народ меря проживал в восточной части Подмосковья.
Однако и эта гипотеза имеет слабые места. Во-первых, в качестве аргумента она использует данные современных марийского и мордовско-эрзянского языков, но марийское маска — «медведица» по своему происхождению отнюдь не марийское. Это русское слово мечка — «самка медведя», попавшее к марийцам только в средневековье, в XIV— XV веках, и переделанное в мест — маска. Во-вторых, при работе с картой бросается в глаза отсутствие гидронимов на —ва в непосредственной близости от Москвы к востоку от нее. Почему название Моск-ва на данной территории осталось одиноким? Ведь практика научных наблюдений убедительно доказывает, что народ, живший на какой-то территории, оставляет после себя целый комплекс однотипных названий рек. Итак, версия о Москве-реке как Медвежьей реке, реке Медведице, также оказывается не лишенной серьезных просчетов.
Существует и третья версия о финно-угорском происхождении названия Москва. Она заключается в том, что компонент моск- объясняется из прибалтийско-финских языков (суоми), а компонент -ва из коми языка: моск-как муста — «черный, темный», -ва — «вода, река». Непоследовательность состоит уже в том, что каждая часть названия объясняется из разных языков, удаленных друг от друга. Если бы название принадлежало суоми, то вторая его часть была бы не ва, а веси — «вода» или йоки — «река», «ручей». А в переводе тогда Москва-река значило бы «черная река», «мутная река» или «темная река». Кстати говоря, названия рек по темному цвету их воды достаточно распространены и известны в бассейнах многих больших рек. В бассейне Оки есть реки Грязная, Грязнуха, Мутня, Мутенка, Темная, в бассейне Днепра — реки Грязива, Грязна, Мутенька, Темна.
В общем, ни одна из финно-угорских гипотез не учитывает всех лингво-исторических условий возникновения названия Москвы-реки. И сейчас у них очень мало сторонников.
Результатом экзотических увлечений были попытки объяснить слово Москва на основе языков тех народов, что живут или жили весьма далеко от бассейна Оки.
Академик А. И. Соболевский в начале XX века пытался доказать, что слово Москва — ирано-скифского происхождения. Он высказал предположение о том, что в основе этого названия лежит авестийское слово ама — «сильный». Авестийским языком называют язык древнеиранского памятника Авесты, в основе которого лежит одно из восточно-иранских наречий XI—VII веков до нашей эры. Позже в авестийский язык проникали некоторые западноиранские элементы, например парфянские, мидийские. Но у этой версии есть целый ряд слабых мест. Во-первых, скифские ираноязычные племена никогда не жили в Подмосковье или в бассейне реки Москвы. Во-вторых, в этом районе нет больше рек, названия которых имели бы аналогичные значения и тот же способ образования. В-третьих, налицо серьезное противоречие ив принципе называния. Соболевский считал, что название Москвы-реки можно перевести как «река-гонщица». Но характер названия абсолютно не соответствует тихому и спокойному течению равнинной реки, особенно если сравнить ее с хорошо известными скифам горными реками.
В двадцатые — тридцатые годы XX века под влиянием модного тогда учения (яфетической теории Н. Я.Марра) были предприняты попытки объяснить корень моск— на иной основе. Известный советский академик географ Л. С. Берг высказал предположение о гибридном происхождении названия Москва: элемент —ва, по его мнению, принадлежит финно-угорской языковой среде, а корень моск— связан с названием кавказского народа мосхов и имеет общее происхождение с такими этнонимами, как абхаз и баск. В доказательство этого Берг не провел никакого лингвистического анализа, а основывался только на внешнем сходстве привлеченных им слов с гидронимом Москва, преимущественно на сходстве в звучании слов моек и мосх. Он не нашел, да и не мог найти, ни одного исторического факта появления этого южного племени в бассейне Москвы-реки.
Последователи этой гипотезы довели ее до курьеза. В 1947 году историк Н. И. Шишкин высказался в том смысле, что оба компонента (и моск— и —ва) принадлежат так называемым яфетическим языкам, что якобы дает возможность переводить гидроним Москва как «река мосхов» или «племенная река мосхов». Шишкин не привел ни одного нового лингвистического или исторического факта, аргумента.