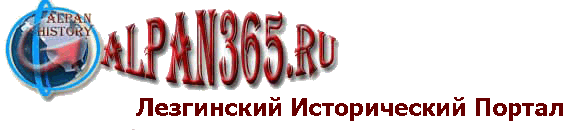Позволив воинам отдохнуть два дня и улучшив снаряжение войска за счет захваченных у кызылбашей коней и оружия, Хаджи-Давуд принял решение продвигаться вперед в направлении Ардебиля. К нему присоединилось значительное число воинов из местных племен. Как пишет Али-бей Бедреддинзаде: «А когда [Давуд-бей] с этих мест совершил, призывающий к порядку поход на Ардебиль, сунниты [Мугани], кетхуда и главы [племен] изъявили повинование». (См.: Там же. С. 75).
Некоторые историки утверждают, что продвигаясь в направлении Ардебиля, Хаджи Давуд прошел с войском, минуя Тебриз. Однако в ту пору это было невозможно, так как прямой дорогой ведущей с Муганской равнины в Ардебиль, не было. Не позволял сделать это и рельеф местности. Поэтому, волей-неволей, необходимо было сначала захватить Тебриз, и только затем – Ардебиль.
Летописцы той эпохи были поражены тем, что в отличие от многих других полководцев, Хаджи Давуд за короткое время захватил и Тебриз. Судя по их записям, Тебриз был неприступной крепостью, что подтверждают и исторические факты. Чтобы убедиться в неприступности Тебризской крепости, достаточно вспомнить про участь турецких войск, стремившихся захватить эгот город: «В августе 1724 года турецкие войска вступили в Нахчыван и Ордубад. А в феврале 1725 года приблизились к Тебризу. Окруженные 25-тысячной вражеской армией тебризцы оказали ожесточенное сопротивление. Потеряв 20 тысяч чело- век, чужеземцы были вынуждены отступить. Отступая, они расправлялись с населением, уводили многих в плен, уничтожали села огнем и мечом. Тебризцы преследовали врага, наносили ему удары с тыла. Крайне истощенные турецкие войска не смели нападать на Тебриз в течение нескольких месяцев. В одно время с наступлением на Тебриз, возглавляемая Сары Мустафа-пашой османская армия двигалась на Карабах и Гянджу. Оккупанты всюду сталкивались с сопротивлением местного населения. В августе 1725 года сдалась Гянджа. Потом турецкие войска вторглись в Карабах. Здесь борьба продолжалась долгое время…
В июле 1725 года турецкое командование снова направила на Тебриз большую армию. Несмотря на огромное превосходство в живой силе и артиллерии, османцы не могли захватить город в течение 2 месяцев. А когда они, наконец, ворвались в город, теб- ризцы стали защищать каждый квартал, каждый дом. Вот как описывает героическую защиту Тебриза английский путешественник того времени Дж.Ханвей: «…Население состоящего из 9 разных кварталов большого города вырыло рвы во всех кварталах и, как и всегда при подобных событиях, снова защищало себя с большим героизмом и упорством. Чтобы захватить 7 из этих рвов, туркам пришлось потратить 4 дня и ночи…» Тебриз был захвачен после недели яростных уличных боев. Турецкие войска перебили до 30 тысяч человек защитников города, а часть мирного населения увели в плен. Но эта победа далась оккупантам слишком дорогой ценой. Из 158-тысячного султанского войска остались в живых только 42 тысячи человек». (См.: История Азербайджана. Баку, 1961. С. 331).
Некоторые авторы, пораженные тем, что Хаджи Давуд овладел Тебризом в столь короткие сроки, забывают об одном: турки намеревались захватить Тебриз, а затем включить его в состав Турции. Хаджи Давуд же не ставил перед собой подобной цели. Наоборот он хотел освободить город от кызылбашей. И главной того, что лезгинский полководец добился такого быстрого успеха, было именно это обстоятельство.
После того, как войска Хаджи Давуда разбили лагерь недалеко от Тебриза, полководец с помощью своих людей собрал главарей окрестных деревень для того, чтобы разъяснить им цель своего похода. Он объяснил им, что не намерен поднимать оружие на местное население, наносить ему ущерб и разрушать город, что он сражается только с войском шаха. После того, как Тебриз будет освобожден от кызылбашей, он двинется в поход на Ардебиль, являющийся их гнездом. Полководец посоветовал главарям и вождям племен и родов идти в Тебриз для того, чтобы объяснить все это местному населению. В то же время он сказал, что через три дня он пойдет в наступление на Тебриз, и пусть местное население не оказывает поддержку войскам шаха.
Все так и случилось. Как и обещал Хаджи Давуд, через три дня начался штурм. Местное население действительно не оказало поддержки кызылбашам. Когда на четвертый день сражения кызылбаши начали сражаться с тем, чтобы вытеснить лезгин из крепости, 3-4 тысячи воинов Хаджи Давуда расчистили подход к крепостным воротам. Ни воины, сражавшиеся за крепостными стенами, ни оставшиеся внутри не смогли вовремя запереть их. Лезгины так стремительно ворвались в город, что кызылбаши не смогли остановить их. Без поддержки местного населения воины шаха были не в силах оказать сопротивление лезгинам в уличных боях. Когда через несколько часов воины шаха, оставшиеся снаружи крепости, начали спасаться бегством, Хаджи Давуд, преследуя бежавших, начал убивать их. Когда он вернулся в город, большинство улиц и кварталов города находилось уже в руках его воинов. Хаджи Давуд вступил в крепость, оставшиеся в живых кызылбаши сложили оружие и сдались ему. Сдавшихся в плен воинов он разоружил и прогнал из города.
По поводу победы полководца в Тебризе Али бей Бедреддинзаде писал: «А Эльхадж Давуд вместе с воинами-суннитами Ширвана и лезгинами прибыл в Тебриз через вышеупомянутую Муганскую степь, и когда, по воле Аллаха Всевышнего захватил [город], решил собрать вместе всех своих товарищей и готов был направиться в Реван, в Эчмиадзин..».. (См.: «Кайме» Бедреддинзаде Али бея. Известия Академии Наук Азербайджанской ССР. Серия истории, философии и права, 1988. № 3. С. 76).
Некоторые русские источники, признающие, что в тот период Хаджи Давуд обладал огромной военной силой и мощью, связывают победы полководца при освобождении Тебриза и Ардебиля от шахских войск с тем, что он придерживался своеобразной, присущей только ему военной тактики. В то же время, гуманизм человечность, проявленные полководцем при взятии этих городов, доказывают и то, что Хаджи Давуд был истинным вестником свободы. Он вел борьбу для освобождения от гнета Ирана не только своего народа, но и других народов. Именно поэтому он снискал к себе искреннюю любовь и огромное уважение многих народов региона.