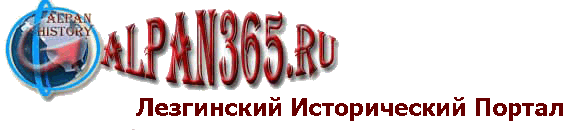Барышникова Н. В.
Каспийский поход Петра I:
причины и цели
 Одним из крупнейших мероприятий России по обеспечению ее интересов на Востоке в первой четверти XVIII века являлся поход на побережье Каспийского моря в 1722-1723 гг., который был продиктован экономическими и военно-политическими интересами. В первую очередь развитие русской промышленности, о чем столь неустанно заботилось правительство Петра I, требовало расширения сырьевой базы и рынков сбыта. Правда, русская промышленность в основном была обеспечена отечественным сырьем. Но все же ввиду особых географических условий испытывала недостачу й нужду б разных видах сырьевого материала. Например, шелка- сырца, хлопка, шерсти, селитры, металлов, стройматериалов и других. Присоединение же богатых Прикаспийских провинций способствовало обеспечению русской промышленности целым рядом сырья и главным образом шелком-сырцом*.
Одним из крупнейших мероприятий России по обеспечению ее интересов на Востоке в первой четверти XVIII века являлся поход на побережье Каспийского моря в 1722-1723 гг., который был продиктован экономическими и военно-политическими интересами. В первую очередь развитие русской промышленности, о чем столь неустанно заботилось правительство Петра I, требовало расширения сырьевой базы и рынков сбыта. Правда, русская промышленность в основном была обеспечена отечественным сырьем. Но все же ввиду особых географических условий испытывала недостачу й нужду б разных видах сырьевого материала. Например, шелка- сырца, хлопка, шерсти, селитры, металлов, стройматериалов и других. Присоединение же богатых Прикаспийских провинций способствовало обеспечению русской промышленности целым рядом сырья и главным образом шелком-сырцом*.
В первой четверти XVIII века в России были основаны 52 мануфактуры в черной металлургии, 17 — в цветной, 7 — в пороховом производстве, 15 — суконных и шерстяных, 15 — полотняных, 15 — шелковых, II — кожевенных, 5 — бумажных и др.1 Из этих данных видно, что на шелкоткацкое производство приходится значительное число мануфактур для того времени — 15 и с немалым удельным весом’. При у см все эти мануфактуры снабжались шелком-сырцом, поступающим главным образом из Прикаспийских провинций. Создание шелковой мануфактурной промышленности в России именно в начале XVIII века было обусловлено ростом потребности господствующего класса в дорогих шелковых изделиях и политикой меркантилизма, что ставило задачу присоединения богатых шелком Прикаспийских провинций.
Аналогичное положение в отношении обеспечения сырьем испытывала хлопчатобумажная промышленность, которая тогда только что зарождалась. Наряду с этим, присоединение Прикаспийских провинций способствовало обеспечению сырьем суконной и текстильной промышленности, а также порохового производства4. Эти провинции были богаты также и другими видами сырья (стройматериалы, металлы, нефть), к которым Россия проявляла определенный интерес. Известно, что одной из характерных черт деятельности Петра I было стремление наиболее широко организовать разработку разнообразных природных богатств5. Поэтому не удивительно, что он так тщательно добивался максимального использования природных богатств Прикаспийских провинций, присоединенных к России в 1723 году и с этой целью принимал энергичные меры для их разведки и использования. Но это обстоятельство в числе экономических предпосылок похода имело второстепенную роль, ибо стройматериалы и металлы в достаточном количестве имелись в самой России, а нефть тогда еще не имела большою применения7.
Своими реформами Петр I сделал многое для возвышения класса помещиков и развития нарождавшегося купеческого класса. Это, естественно, повлекло за собой увеличение спроса этих классов на предметы потребления и в первую очередь на предметы роскоши, которые не производились в России. В стране значительно Возрос спрос на драгоценности, дорогую посуду, украшения, пряности, вина, водку, фрукты, сахар, рис, кофе, роскошные ковры, шелковые, шерстяные и хлопчатобумажные ткани и др. Небольшая часть этих товаров, как нам известно, ввозилась в Россию из Прикаспийских стран (Кавказа, Ирана, Средней Азии), а также из Индии, где они были в избытке’. Поэтому присоединение Прикаспийских провинций способствовало лучшему удовлетворению возросших потребностей господствующего класса России. Вместе с тем оно раскрывало перед русским правительством новые источники государственного дохода. Именно этим и объясняется большой интерес правительства Петра I к доходам, собираемым в шахскую казну с Прикаспийских провинций, который оно проявляло как во время подготовки к ноходу, так и в годы самой военной компании 1722-23 гг.’
В деле укрепления экономической мощи России Петр I придавал большое значение развитию внешней торговли, организации которой он уделял огромное внимание10. Насколько важное значение придавал Петр I торговле с восточными странами и в частности с Ираном видно хотя бы из того, что в указе от 2 марта 1711 г., определявшем круг вопросов, подлежащих особому вниманию учрежденного им правительствующего Сената, значилось: «Персидский торг умножить, а армян как возможно приласкать и облегчить, в чем пристойно, дабы тем подать охоту для большего их приезда»11. На восточной торговле складывались крупные купеческие капиталы, которые впоследствии способствовали промышленному развитию Русского государства».
Русское правительство стремилось к тому, чтобы весь главный экспортный товар Ирана — шелк-сырец поступал в Европу через Россию водным путем. Этому способствовал прорытый в 1708 году Вышневолоцкий канал, составивший сплошной водный путь от Астрахани до Петербурга. В вывозе из Ирана шелка-сырца, шелковых и хлопчатобумажных тканей были заинтересованы почти все европейские страны. Но торговые пути из Европы в Иран были неудобны: морской путь вокруг Африки был очень длинный и трудный. Другой путь через Турцию также был не выгоден, ибо купцам, проходившим этим путем, приходилось платить турецким феодалам неимоверно большие пошлины за провоз товаров, помимо того этот путь был небезопасен. И поэтому в XVI — XVIII веках европейцы делали многочисленные попытки получить транзит в Иран через территорию России. Тогда этот путь проходил по Каспийскому морю, Волге, Сухоне, Северной Двине в Архангельск и шел дальше в Европу северными морями
Всесторонне изучив причины, препятствовавшие развитию русской торговли в Иране, и в целях устранения этих препятствий А.П. Волынский предлагал организовать торговую компанию для торговли с Персией и учредить в Иране консульство, что и было осуществлено русским правительством в 1720 году13. Правительство Ирана, согласившись с поводами А.Волынского, брало на себя обязательство обезопасить в дальнейшем торговлю русских купцов, однако отказалось дать удовлетворения прошлые их обиды. Иран согласился гарантировать русским купцам свободу передвижения от пристани к торговым пунктам, наем конвоя, справедливое взимание пошлин и сборов, выполнение своими подданными услуг, торговых сделок, правосудия со стороны иранских правителей. Что же касается требований Волынского о запрещении дагестанцам совершать нападения на русских купцов, то главный визирь (эттимат-ад-девлет) Фатали-хан вынужден был признаться, что шах не в силах это выполнить, «понеже их тот пожиток, что ежели где близ их разобьет судно, они как людей, так и вещи почитают уже своими, и не токмо россиян, но и прямых подданных шаховых не спускают», что шамхала люди не являются подданными шаха и «шаховых указов не слушают»14.
Иранское правительство, поскольку государство переживало кризис, не в силах было обеспечивать безопасность русских купцов, нападения на них не только не прекратились, а наоборот участились, так как в этом были заинтересованы местные феодалы, для которых открытый грабеж являлся нормальным способом обогащения, особенно усилились грабежи в связи с вторжением в Иран афганцев и восстанием горцев против шаха». Поэтому обеспечение безопасности русской торговли, естественно, ставило перед Россией задачу овладения западным и южным побережьем Каспийского моря, что, в свою очередь, делало возможным практическое осуществление планов развития русской торговли со странами Востока.
Согласно планам Петра I, интенсификации подлежала первым долгом торговля с Ираном, Средней Азией и Закавказьем, в том числе с Грузией. Как отмечает Соймонов, Петр I хотел при устье реки Кура заложить большой купеческий город, в котором бы «торги грузинцев, армян, персиян яко в центре соединялись и оттуда б продолжались до Астрахани»». С этой целью Баскакову, назначенному вице-консулом в Шемаху в 1720 году», был дан указ собрать сведения о реке Куре: «Откуда течет и как велика и глубока, и ходят ли по ней какие суда и до которых мест, и по той реке какие живут народы»».
Осенью 1722 года Петр I, находясь в Астрахани, беседовал с купцом Андреем Семеновым о торговле с Грузией». Планы Петра I в отношении развития русской торговли на Востоке целиком соответствовали интересам русского купечества. Так, например, Ф.И. Соймонов указывает, что русские купцы, беседуя с ним о восточной торговле, высказывали свое мнение: «…должно торги отправлять не каждому порознь, но многим сложившимся вместе … составить купеческую компанию, в какую также принять переселившихся в Россию армян, потому что они наибольше знают о тамошних странах и как прибыточнее торги отправлять. Если же капиталу к тому не n достанет, то можно надеяться, что из государственной казны снабдены будут знатною суммою. Главной их конторе и большому магазину, откуда бы персидские провинции всегда и по состоянию обстоятельств довольно товару доставать могли, должно быть в Астрахани. Другую бы учредить в Испагани, а третью — в Тифлисе. В Шемахе, Ряще и Астрабаде надлежит быть малым конторам»20.
Характерно, что мысли о развитии восточной торговли приводятся и в проекте развития русской торговли, представленном Петру I неизвестным автором. В проекте говорится о предоставлении армянским купцам льгот в торговле, чтобы они везли свои товары через Россию, а не через «Смирну и Алепп», так как, по мнению автора проекта, это «к тому приведет, что большая часть купечества восточного через государства ваше отправляться будет, от чего город Санкт-Петербург зело процветает, потому что оные товары, которые из Персиды и Георгии выходят, во всех странах Балтийского моря потребны»21.
Внешнюю торговлю Петр I рассматривал как один из важнейших источников государственных доходов: таможенные пошлины составляли немалую часть бюджета России. Вместе с тем внешняя торговля подчинялась общей задаче подъема производительных сил страны, и в частности промышленности». .
Таковы были экономические предпосылки и цели похода. Но наряду с этим поход русских войск на побережье Каспийского моря в 1722 году был обусловлен и определенными политическими интересами России.
Западное побережье Каспийского моря — территория, интересующая Петра I, через которую и проходил торговый путь, находилась в руках Ирана. Сефевидское государство, являющееся пестрым конгломератом различных племен и народов, находившихся на разных стадиях социально- экономического развития, в начале XVIII века переживало экономический и политический упадок, который совершенно явно появился уже в конце XVII века». Главной причиной этого было доведение до крайности бедственного положения трудового населения. Чрезмерная и чем дальше, тем больше возраставшая феодальная эксплуатация крестьянства и трудовой массы города не только не сопровождалась ростом производительных сил, но и приводила их в расстройство. Правительство и феодалы, пытаясь предотвратить падение своих доходов путем увеличения налогов, еще больше подрывали сельское хозяйство, ремесло и торговлю. Волынский подчеркивал, .что Иран «вместо богатства великую скудость имеет … подданные шаха … великими налогами отягчены и платят чрезмерные налоги. Но токмо больше из того корысти управителям, а не государю, которому они приносят только листвие, а самые плоды у себя оставляют, что уже у них вошло в обычай и в том бедном подданном милосердия весьма нет … у правителя … больше ищут свое, нежели государственную пользу. И так озлобили народ своими поступками, что редкие остались места, где не было ребелей. И тако кратко сказать, что уже ныне Персия от того к конечному разорению и падению приходит»».
В Иране процветали коррупция, борьба различных группировок феодальной знати, дворцовые интриги, достигшие неимоверных, масштабов, особенно при бездарном шахе Хусейне (1694 — 1722), который являлся марионеткой в руках придворной клики, ведавшей всеми делами, связанными с внутренней и внешней политикой страны.
Противоречия между крестьянами и феодалами, а также между покоренными народами и сефевидами чрезвычайно обострились к началу XVIII века. Это приводило к восстаниям, происходившим во многих районах страны. Например, в 1716 — 1717 годах крупные восстания произошли в Тавризской и Казвинской областях, о которых нам кратко’ сообщает Волынский. Крупное восстание торгово-ремесленного населения*» произошло в Испагани в апреле 1717 года, вызванное тем, что главный визир монополизировал продажу хлеба в столице и взвинтил на него цены25. Особенно широко развернулись восстания покоренных народов, обычно происходивших под идеологическим знамением защиты суннизма против шиизма. Таково было, например, восстание руководимое Мир-Вейсом. В 1711 году началось восстание в Дагестане.
В 1715 году приемником Мир-Вейса стал его брат Мир-Абдулла. Но последний в 1717 году был убит Мир-Махмудом — сыном Мир-Вейса. Под знаменем Мир-Махмуда объединились предводители многих афганских племен в надежде на легкую и богатую добычу. В 1720 году они вторглись в Иран. В конце 1721 года Мир-Махмуд вторично вторгся в Иран. На этот раз его войска подошли к самой его столице — Исфагану. 8 марта 1722 года Мир-Махмуд начал осаду Исфагана. После длительной осады 12 октября 1722 года шах Хусейн сдался на милость Мир-Махмуда. Из столицы удалось бежать лишь наследнику престола Тохмаспу — сыну Хусейна.
Таким положением Ирана старалась воспользоваться султанская Турция, стремившаяся к расширению своих владений. Она намеренно поддерживала афганское восстание, рассчитывая этим ослабить Иран и облегчить себе захват новых территорий.
В первую очередь турки стремились к расширению своей власти на Кавказе. С этой целью они начали активно действовать в Кабарде, Дагестане и Азербайджане2‘. Здесь турецкими агентами, подготовлявшими почву для их агрессии, выступали отдельные подкупленные османами феодалы.
Русскому правительству хорошо было известно об этих действиях Турции. Поэтому оно принимало активные меры по устранению опасности.
К 1722 году, благодаря протурецкой ориентации руководителей антииранского движения лезгин, вполне реальной стала возможность вторжения Турции в Прикаспий, что в корне противоречило государственным интересам России. Турция, овладев Прикаспийскими провинциями, воспрепятствовала бы здесь русской торговле. Известно, что Турция являлась ярым противником того, чтоб иранский шелк вывозился в Россию, ибо она сама была заинтересована в его вывозе через свою территорию. Посол Петра I и Хиве и Бухаре Флорио Беневени в 1721 году, будучи проездом в Испагани. указывал: «… султан … претендует от шаха, дабы весь гилянский шелк вывезен был в его область, а не через Каспийское море в Россию. Понеже or толе во всю немецкую землю рассылается»17.
Наряду с этим, утверждение Турции в Прикаспии создавало угрозу безопасности юго-восточных границ России. Отмечая уязвимость России с юго-востока, что было следствием ряда неблагоприятных условий, «связанных с конфигурацией границ, характером местности, отсутствием сильных укреплений и этническими особенностями»[1]‘, В.П Лысцов правильно рассматривает неблагоприятное для России положение. «Положение на юго-востоке России ко времени Персидского похода, — пишет он, — характеризовалось следующими особенностями:
1) незащищенность границ ввиду отсутствия естественных преград и слабость искусственных оборонительных сооружений;
2) необеспеченность тыла ввиду наличия протурецких устремлений среди известной части турско-мусульманской знати, состоявшей в российском подданстве;
3) состояние не прекращавшейся войны между Россией и порубежными ей владельцами, в большинстве своем мусульманами тюркского происхождения, состоявшими в персидском и турецком подданстве.
В такой обстановке к 1722 году надвинулась опасность утверждения Турции в Кабарде и в прикаспийских землях Персии, то есть как раз на юго-восточных границах России»19. Но утверждение Турции в Прикаспии грозило не только безопасности юго-восточных границ России, оно так же противоречило ее экономическим интересам, что имело более существенное значение. В противном случае Петр I мог ограничиться лишь строительством оборонительных сооружений, укреплением тыла и другими средствами усиления своих юго-восточных границ. Но это поставило бы под вопрос обеспечение экономических интересов России, а также ослабило бы ее позиции на Кавказе.
Таким образом, недопущение Турции в Прикаспий было делом обеспечения государственных интересов России, что могло быть достигнуто только занятием этих земель русскими войсками и тем самым передачи их в полное впадение России, вследствие чего Петру I нельзя было медлить.
Наряду с этим, ряд обстоятельств благоприятствовал России начать военные действия в 1722 году. Во-первых, в силу сложившейся обстановки в Иране Петр 1 мог присоединить Прикаспийские провинции, не нарушая мира с Ираном, во-вторых, в лице Грузии и Армении Россия имела надежных союзников, в-третьих, у России был весьма убедительный повод для начала военных действий — ограбление русских купцов в Шемахе 7 августа 1721 года, в-четвертых, Северная война победоносно была завершена в 1721 году Ништадтским миром, что развязывало руки Петру I и делало возможным начало военных действий в Прикаспии. Таковы были военно- политические предпосылки и цели похода.
Из всего сказанного видно, что совокупность экономических и военно- политических интересов России толкнула Петра I в 1722 году на решительный шаг для присоединения западного и южного берега Каспийского моря.