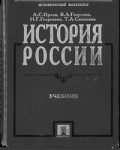В многовековой истории народов Восточного Кавказа особое место занимают национально-освободительные войны и движения, зачастую являвшиеся поворотными пунктами в политическом и социально-экономическом развитии региона. Почти всегда они протекали под ярко выраженными религиозными лозунгами. В первые годы XVIII века в Лезгистане и Ширване развернулось грандиозное освободительное движение, происходившее под лозунгами избавления правоверных суннитов от гнета еретиков-шиитов. Во главе движения стал лидер суннитского духовенства Лезгистана Хаджи-Давуд Мюшкюрский.
Известно, что в эпоху феодализма почти у всех народов общественные проблемы и противоречия осознавались лишь в религиозной форме с помощью религиозных понятий и терминологии. Для народных масс, подавленных феодальным гнетом, религия была наиболее понятной и приемлемой формой идеологии. На это еще в свое время указывал и В.И. Ленин, отмечая, что «выступление политического протеста под религиозной оболочкой есть явление, свойственное всем народам, на известной стадии их развития»[1].
Один из русских исследователей XIX века А. Комаров писал, что Хаджи-Дауд создал и распространил особое духовное учение, сущность которого клонилась к уничтожению светской власти. Исходя из этого Комаров полагал, что это учение мало чем отличается от так называемого «мюридизма» идеологии освободительного движения горцев Дагестана и Чечни в 20-е-50-е годы XIX века[2]. Об этом же писали и некоторые более поздние зарубежные авторы, указывая на несомненную параллель Хаджи-Давуд-Шейх Мансур и Имам Шамиль[3].
Заметим, что тарикат накшбандийского толка, известный по русским источникам XIX века как «мюридизм», является мистическим направлением, руководствующимся идеями суфизма (мистико-аскетическое течение в исламе) и особенно его составной частью тарикатом. О времени и путях проникновения тариката на Восточный Кавказ в исторической литературе высказывались самые различные мнения. Однако большинство ученых-кавказоведов полагают, что тарикат накшбандийского толка получил распространение здесь еще задолго до XIX века[4].
Немаловажным аргументом в пользу вышеприведенной версии о схожести идеологий этих двух движений может служить, на наш взгляд, и хорошо известный факт паломничества Хаджи-Давуда в Мекку, которое многие источники напрямую связывают с началом его религиозной и политической деятельности[5]. Именно, вернувшись из Мекки, Хаджи-Давуд провозгласил, что он призван Аллахом избавить правоверных суннитов от тирании исказителей и врагов ислама – шиитов[6]. Это призыв нужен был ему для того, чтобы поднять и сплотить широкие народные массы для свержения ненавистного иноземного ига. Огромное значение Мекки и Медины, как центров общения и интеллектуального обмена мнениями, в последние годы признано исследователями. Мекка была тогда сборным пунктом для недовольных своим положением суннитов со всех концов Сефевидской империи. Общепризнан также и тот факт, что многие из вернувшихся домой паломников становились затем предводителями массовых восстаний под религиозными знаменами[7].
В 1708 году на хадж в Мекку ездил и афганский князь Мир-Вейс, отец Мир-Махмуда. Вернувшись на родину, он утвердил фатву, которая признавала законность джихада против шиитских угнетателей, а через некоторое время он возглавил восстание против Сефевидов, чью империю должен был уничтожить его сын.
Все вышеизложенное, конечно, не дает нам достаточных оснований утверждать, что учение Хаджи-Давуда, а значит и сама идеология народно-освободительного движения под его руководством основывалась на накшбандийском тарикате-идеологии освободительного движения горцев Дагестана и Чечни в 20-50-е годы XIX века. Но, в то же время у нас нет никаких оснований и для отрицания этого. Ведь как считал еще М. Казембек, для мюридистского движения совсем не обязательно, чтобы его участники были тарикатами. Мюридистскую идеологию может иметь любое движение, использующее знамя газавата, когда во главе его стоит духовное лицо[8].
Абдулаким Бутаев,
кандидат исторических наук,
2002 г.
[1] Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 4. С. 228.
[2] Комаров А. Казикумухские и кюринские ханы. // Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. 2. Тифлис, 1869. С. 9.
[3] Bennigsen Alexandre. Peter the Great, the Otfoman Empire and the Caucasus // Canadian American Studies 8(1974). S. 311-318; Clemens P.Sidorko. Kampf den ketzerischen Qizilbas! Die Revolte Haggi Da’ud (1718 – 1728) // Caucosia betwenn the Ottoman Empire and Jzan. 1555-1914. Visbaden, 2000. S. 133-144.
[4] Абдуллаев М. Казембек – ученый и мыслитель. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1963. С. 108-109; Магомедов Р.М. Шамиль в отечественной истории. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1990. С. 25.
[5] См. нп.: Гербер И.Г. Описание стран и народов вдоль западного берега Каспийского моря в 1728 году. // История, география и этнография Дагестана XVIII-XIX вв. Архивные материалы. / Под ред. Косвена М.О. и Хашаева Х.М. М., 1958. С. 95; Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. СПб., 1869. Ч. 1. С. 2-3.
[6] РГАДА. Ф. Сношения России с Персией. 1721. Ед. хр. 55. Л. 61; Алиев Ф.М. Антииранские выступления и борьба против турецкой оккупации в Азербайджане в первой половине XVIII века. Баку: Элм, 1975. С. 23.
[7] Clemens P. Sidorko. Kampf den kefzerischen… // Caucasia between… S. 144.
[8] Казембек М. Баб и бабиды. СПб., 1865; Абдуллаев М. Указ. соч. С. 109.