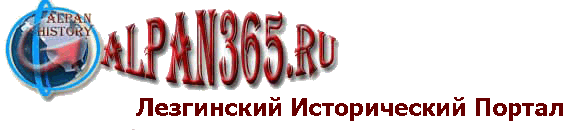I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
- § 1 ХОЗЯЙСТВО В XVI—XVII BВ
- § 2. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
- § 3. УГЛУБЛЕНИЕ ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ
- § 4. ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОИ
- § 5. ИСТОЧНИКИ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПРАВА
- § 6. БОРЬБА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА ПРОТИВ ИРАНСКИХ И ТУРЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В XVI—XVII вв.
- § 7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДАГЕСТАНА С НАРОДАМИ КАВКАЗА В XVI—XVII вв.
- § 8. РУССКО-ДАГЕСТАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В XVI—XVII вв.
- § 9. КУЛЬТУРА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА В XVI—XVII вв.
В XVI—XVII вв. продолжают развиваться и укрепляться экономические процессы, начавшиеся в предшествующие века. Процессы эти были обусловлены как развитием производительных сил и общественных отношений в Дагестане, так и изменениями во внешнеполитической обстановке. Одним из основных факторов, влиявших на дальнейшее развитие экономической жизни Дагестана в этот период, можно считать уже окончательное дифференцирование хозяйства по географическим зонам.
Как и в предыдущие эпохи, земледелие и оседлое скотоводство составляли основу хозяйства Дагестана. Естественно, в равнинной и нижнепредгорной части, где были более благоприятные условия, хозяйство, и особенно земледелие в его наиболее интенсивных формах (садоводство, виноградарство и т. д.), было более развито. В XVI—XVII вв. здесь уже стала складываться общедагестанская хлебная житница. В то же время в горной части, где удобной для пахоты земли было очень мало, земледелие было сопряжено с огромными трудностями, требовало вложения слишком больших средств и труда. В связи с этим в горах увеличивается вес животноводства и домашних промыслов.
В горных долинах, в местах, где возможно было орошение, развивается садоводство и виноградарство, в нагорье же сохраняется земледелие, частично земли используются под покосы и пастбища. Таким образом, выделяется еще одна естественноисторическая зона — горнодолинная.
Еще одной зоной, которая приобретает к этому времени определенную хозяйственную специфику, становится высокогорье, где наибольшее развитие получает скотоводство, в особенности овцеводство.
Таким образом, в XVI—XVII вв. происходит дальнейший процесс размежевания между отдельными местными центрами производства и складывания довольно четкого географического разделения труда уже не только между крупными зонами, но и внутри их.
К концу XVII в. этот процесс в целом завершается, и дальнейшее хозяйственное развитие происходит на базе уже почти полностью сложившегося разделения труда. Интенсивный рост производительных сил приводит к освоению новых земель, начинается процесс обратного освоения заброшенных ранее земель и террас, но уже с более специализированным уклоном. С этим освоением земель связан и процесс образования отселков чисто территориального характера, появление многих микрозон хозяйственного и торгово-обменного характера и процессы политической децентрализации и феодального раздробления крупных политических объединений.
Основными занятиями населения Дагестана в этот период были земледелие, скотоводство.
Плоскость и нижнее предгорье характеризуются развитым земледелием. Кроме зерновых здесь практикуются посевы хлопка, бобовых, производят шелк. Большое значение имеет здесь и животноводство, в особенности разведение крупного рогатого скота и лошадей.
Для верхнего предгорья и горной части характерно скотоводческо-земледельческое хозяйство. Сравнительная неразвитость обмена и оторванность отдельных районов способствовали тому, что здесь в описываемый период было еще немало микрорайонов с полунатуральным скотоводческо-земледельческим или земледельческо-скотоводческим хозяйством. Среди производимых продуктов здесь можно видеть зерно, бобовые, лен, масло, сыр, мясо, шерсть и др.
В горных долинах сочетается разведение садов внизу с использованием склонов гор повыше для террасного богарного земледелия и скотоводства.
С развитием обмена к концу XVII в. намечается упадок богарного земледелия с использованием заброшенных террас под покосы и пастбища и интенсификацией приречного садоводства.
Главными продуктами здесь являются фрукты, животноводческие продукты, зернобобовые и пр.
Высокогорье, отличающееся обилием альпийских и субальпийских пастбищ, с началом складывания местной специализации стало районом развитого овцеводства. При этом нередко овцеводческими становились и селения, не располагавшиеся в высокогорье, но имеющие высокогорные пастбища в пределах своих земель.
Однако, несмотря на географическое разделение труда, земледелие и скотоводство развивалось во всех зонах, только в разных соотношениях. Особенно заметна была эта тенденция в горной зоне, где крестьяне, даже став по преимуществу скотоводами, тем не менее стремились иметь клочок собственной пашни, наличие которого символизировало как бы определенное благополучие семьи.
Наиболее развито было земледелие, как мы указывали, на плоскости. Хозяйство здесь было более мощным и многоотраслевым. В земледелии здесь господствовало трехполье, применялся как черный пар, так и зябь, однако достаточно часто встречается и переложная система, сохранению которой способствовало изобилие земли. В отличие от горной части здесь, где распахивались большие массивы земель, уже получил широкое распространение деревянный колесный плуг, в который впрягали несколько пар быков.
В горной зоне также были сильны земледельческие традиции, и техника земледелия здесь была не ниже, чем на плоскости, а в некоторых отношениях, в частности в отношении эффективности и интенсификации, даже выше. Трехполье, пары, зябь и прочее были известны и здесь, не говоря уже о развитом террасостроительстве и орошении. Но здесь земледелие не имело возможностей бесконечного расширения и развития.
Для горного Дагестана вообще были характерны две системы скотоводства: горно-стационарное и отгонное. Для высокогорья больше характерно отгонное, для горных долин и верхнего предгорья — стационарное, базирующееся на использовании пастбищ, пригревов и стернин. Естественно, что последнее характерно для районов с относительно развитым земледелием и садоводством. Поэтому в здешнем стаде велик и процент крупного рогатого скота, дополняющего земледелие (рабочий скот, удобрения) и в то же время получающего от него фураж.
Чем глубже становится разделение труда между зонами, тем большие размеры принимает разведение скота в высокогорной зоне и части селений горной зоны, обладающих высокогорными пастбищами. Это и понятно, так как растущие возможности обмена, избыток поголовья скота и животноводческих продуктов стимулировали массовое разведение скота. При этом для обеих систем животноводства — отгонной и стационарной — свойственны и разные формы количественного и качественного состава стада. В стационарном скотоводстве ведущая роль принадлежит крупному рогатому скоту и непрерывного воспроизводства стада не наблюдается. Приплод каждого года и некачественный скот обмениваются каждую осень на другие товары. Такая практика объясняется также и составом стада, так как крупный рогатый скот менее приспособлен к перегонам, чем мелкий. Характерно, что стационарным содержанием скота, с преобладанием крупного рогатого скота, занимаются и в тех микрозонах, где имеется достаточно летних пастбищ, но по каким- либо причинам нет возможностей отгонять скот на зимние пастбища.
В отгонном же животноводстве доминирует овцеводство, так как овцы лучше переносят перегон, предвесеннее бескормье, численный рост стада здесь не ограничивается. Разумеется, речь идет о таких районах, где имеется много летних пастбищ. Практикуется и арендование зимних пастбищ.
Совершенно иной характер носит скотоводство на плоскости и в предгорье. Здесь оно являлось дополнением и поддержкой земледелию, поэтому хозяйство плоскости можно назвать земледельческо-скотоводческим. Однако в отличие от горного стационарного скотоводства, где рабочего скота мало, на плоскости рабочий скот составляет в стаде очень большой процент, что объясняется масштабом земледельческих работ.
Садоводство и виноградарство были более развиты на плоскости и в предгорье, особенно около Дербента и рези- , денций крупных феодалов. Однако в горах сады — результат огромного труда по сооружению террас, подведению воды, созданию защитных средств и т. д., вложенного, с расчетом на выгодный обмен. С XVII в. садоводство приобретает здесь сугубо обменный характер. На плоскости сады нередко носят потребительский характер, экономическое благополучие крестьянина от них не зависит. Наиболее распространенными плодовыми культурами были груши, яблоки, абрикосы, сливы, айва,персики и др.
Немаловажное место в хозяйственной деятельности дагестанцев в XVI—XVII вв. занимали домашние промыслы. Географическое разделение труда, складывавшееся на базе развития обмена, способствовало дальнейшему развитию промыслов, которые, сложившись, в свою очередь содействовали развитию обмена и закреплению разделения труда. Развитию промыслов способствовала и общая бедность горного Дагестана, недостаток земли и жизненных средств, получаемых от земледелия и животноводства, что при нарастающем увеличении внутреннего и внешнего обмена, при наличии богатых соседних областей с емким рынком стимулировало поиски источников новых доходов, в частности и путем домашнего ремесленничества.
Из общих причин следует указать и на неблагоприятные природно-климатические условия, порождавшие вынужденное безделье крестьянина в зимние месяцы. В горном Дагестане это расхождение усугублялось безземельем, маломощностью хозяйства, что создавало дополнительную основу для освобождения рабочих рук.И не случайно наибольшее развитие промыслы получили в горной части Дагестана.
На плоскости было развито производство шерстяных, хлопчатобумажных и шелковых тканей, вышивание, ковроткачество, обработка дерева и металла, но большинство этих промыслов носило потребительский характер, что объяснялось небольшим количеством продукции, так как местное население имело меньше избыточного времени, сырья и наименьшую экономическую заинтересованность в промысловой деятельности.
Предгорье характеризуется уже гораздо большим развитием промыслов. Здесь сосредоточны главные центры ковроткачества (лезгины, Табасаран), производства орудий труда и изделий из дерева (Кайтаг), льняных тканей, шерстяных чувалов, обуви, выделки овчин и кож.
Район наиболее высокого развития промыслов — это горы. Главными промыслами, имеющими общедагестанское значение, здесь являются обработка металла и шерсти. В металлообработке здесь имеется и производство орудий (Харбук, Куяда, Тлях и др.), и особенно оружия (Кубачи, Амузги, Харбук, Икра, В. Казанищи, Гоцатль, Араканы). Из шерсти в горах производили сукна, особенно в селениях Карата, Согратль, Ругельда, Сомода, Тлондода, Тинди, Акуша, Цудахар, Хаджалмахи, Мекеги, Муги, Кая, Вихли, Цовкра, Чук- ни и др.; бурки —Анди, Ансалта, Гагатль, Риквани; ковры — Микрах, Ахты, Рутул, Курах; шерстяные узорчатые носки — Ахты, Кубачи, Дидо. Развита здесь была и обработка дерева (Гидатль, Дидо, Усиша, Унцукуль), производство кож (Корода, Салта, Гонода, Тебек и др.), обуви (лакцы, даргинцы), гончарных изделий (Балхар, Испик, Джули), обработка камня (Сутбук, Ругуджа и др.). Такое развитие промыслов, производящих изделия в значительной степени и для обмена, усиливается в XVI—XVII вв., с завершением определения границ отдельных ественноисторических зон, что было обусловлено развивающимся обменом в условиях общей бедности края и маломощности хозяйства, наличия излишков рабочих рук и различных видов сырья.
Следует отметить, что в XVI—XVII вв. становится довольно ощутимым начавшийся ранее процесс превращения некоторых селений с развитым промыслом в центры ремесла и торговли. Наряду с Кубачами, где этот процесс начинается раньше, можно указать несколько селений, где промысел работает почти полностью на рынок и становится основной статьей дохода, т. е. превращается в ремесленное производство. Это — Балхар, Сулевкент, Кумух, Анди, Харбук и др.
Еще больше было селений, где ремесленничество было одной из главных отраслей хозяйства (Сутбук, Амузги, Хулелая, Гоцатль, Карата, Испик, Джули и многие другие) наравне с земледелием, садоводством или скотоводством.
Своеобразным промыслом, связанным с бедностью горцев и постоянным излишком рабочих рук, является отходничество. Как и в промыслах, в отходничестве заметно разграничение по зонам. В XVI—XVII вв., с усилением классового расслоения, оно становится не столько зональным, сколько социальным явлением. Формы отходничества были самые разнообразные: уход горцев к крупным земледельцам плоскости, богатым скотоводам, садоводам; отходники работали и как поденные слуги, и как испольщики на запаханной ими пустоши на плоскости, и как ремесленники (лудильщики, сапожники, шапочники и др.).
Уже само географическое разделение труда, складывающееся на основе развития обмена, является в дальнейшем одной из главных предпосылок и стимулов обмена между населением зон, микрозон и селений. С этого же времени можно предполагать и начало складывания большинства дагестанских базаров ярмарочного типа, многие из которых отличались довольно большими оборотами. Во внутреннем обмене главным товаром плоскости и нижнего предгорья было зерно, которое шло в горную часть, и в Дербент, и на север, в русские крепости и города.
Характерно, что плоскость и вообще селения, имеющие зерно для обмена, чувствуют себя обеспеченными основным необходимым продуктом и поэтому держатся независимо в обменных отношениях. Владелец зерна почти никогда не беспокоился о сбыте его, в лучшем случае он отвозил его на ближайший базар. А горцы ходили со своими товарами за зерном на самые отдаленные от них базары. Эту особенность подметил и И. Г. Гербер, который, говоря о Кайтаге, замечает: «Пшеницею и ячменем удовольствуют многих в горах живущих народов, которые для покупки того хлеба сюда приезжают». Он же подметил другой интересный факт: горцы, традиционно потребляющие зерно определенной области (в частности, горцы Южного Дагестана, обменивающие свои товары на зерно кубинцев), никогда не допускают нападений на эту область или враждебных отношений с ее населением, «чтоб через то не потерять пшена и пшеницу тамо доставать и менять».
Кроме зерна с плоскости и нижнего предгорья шли на продажу скот, виноград, рыба, соль, нефть, шелк-сырец, марена и другие «красильные коренья». В обмен плоскость получала лес, орудия из металла, оружие, сукно, овчины, деревянную утварь и орудия и др.
Предгорье имело для обмена скот, лес и лесоматериалы, лесные ягоды и фрукты, сельскохозяйственные орудия и утварь из дерева, льняные ткани, ковры. Ввозили жители предгорья зерно, соль, нефть, рыбу, шелк-сырец, сукно, железные сельскохозяйственные орудия, оружие, украшения, гончарную посуду и пр.
Наиболее заинтересованной в обмене зоной была горная часть. Горцы сбывали скот, шерсть, овчины, сыр, масло, фрукты (из долин), железные сельскохозяйственные орудия, оружие, украшения, сукно, бурки, музыкальные инструменты, мелкую деревянную утварь, гончарную посуду и т. п.
Главным предметом ввоза горцев было зерно, вся хозяйственная и промысловая деятельность их во многом была подчинена обеспечению себя зерном. Кроме зерна горцы получали в обмен соль, нефть, фрукты, лес, деревянную утварь, орудия и пр.
Кроме обмена зонального характера существовал и внутренний обмен, как между микрозонами, так и между отдельными селениями. Так, сюргинцы сбывали скот, а аку- шинцы и лакцы — шерсть цудахарцам, те в свою очередь сбывали им фрукты и высококачественные сукна; многие плоскостные селения сбывали виноград и фрукты, а, скажем, Губден или Карабудахкент постоянно получали их из горных долин; были в горах и такие селения, которые сбывали излишки зерна (Харахи, Гергебиль, Урада, Ругуджа, Кума и др.).
Разумеется, этот обмен еще нельзя считать развитой торговлей. Беглого взгляда на основные занятия и главные статьи обмена зон и микрозон достаточно, чтобы понять, что хозяйство дагестанцев во многом являлось еще натуральным и обмен осуществлялся в основном в рамках натурального и полунатурального хозяйства. Об этом свидетельствует и то важное обстоятельство, что в Дагестане (исключая Дербент) не было своей денежной единицы, что видно, например, по памятникам обычного права XVI—XVII вв., в которых в качестве эквивалента при компенсациях фигурируют скот, домотканое полотно, иногда котлы.
Положение в обмене несколько изменилось с XVII в., чему в большой степени способствовал выход России к Каспию и оживление транзитной торговли через Дагестан. В это время оживляются и традиционные торговые сношения Дагестана с Азербайджаном, Грузией, Персией, Кабардой, Арменией и значительно увеличивается торговля с Россией.
В целом, характеризуя хозяйственную деятельность народов Дагестана в XVI—XVII вв., следует отметить оживление, связанное с ростом обмена и местной специализацией (географическое разделение труда), общим подъемом производительных сил; но хозяйство в этот период остается еще полунатуральным.
В XVI—XVII вв. в соответствии с дальнейшим развитием феодальных отношений еще больше усиливается процесс деления общества на два противоположных класса: господствующий класс феодалов и класс феодально-зависимого сельского населения. По-прежнему высшую ступень иерархической лестницы занимали владетели феодальных владений — шамхалы, уцмии, майсумы, ханы. Они являлись собственниками крупных земельных угодий, как пахотных, так и пастбищ, покосов и лесов. Вслед за ними шло бекское сословие.
В дагестанских владениях в XVI—XVII вв. различались две категории беков: владетельные и личные (служилые).
Владетельные беки были крупными землевладельцами и являлись сторонниками феодальной децентрализации. Имея в своем распоряжении значительную военную силу, в вопросах внешней политики они выступали как самостоятельная сила и очень часто во имя своих личных корыстных целей становились в оппозицию к центральной власти. В некоторых селениях шамхальства — Карабудахкенте, Губдене, Эрпели, Каранае, Ишкарты — были и потомственные беки, не связанные с ханским родом и называвшиеся в Кумыкии карачи-беки или карачи-бии, в Кайтаге — гимринские беки. Они являлись потомками старинной местной знати, когда-то знаменитой, но униженной влиянием шамхала. Сила и мощь этой группы базировалась не только на том, что они сосредоточили в руках земли и скот, но и на большом ополчении, используемом ими в своих интересах.
Служилые беки в виде пожалования получали земельные угодья и доходы с крестьян. В этом случае пожалованная земля принадлежала ханскому дому.
Но в связи с ослаблением центральной власти и обострением межфеодальных войн уже наблюдаются тенденции к закреплению пожалованных земель в пожизненное пользование. Служилые беки составляли основное руководящее ядро феодального ополчения.
К господствующему классу Дагестана относились и представители мусульманского духовенства. Центральная власть, действуя в своих интересах, стремилась поднять престиж духовных лиц, предоставляя им большие права и привилегии в своих владениях, привлекая верхушку духовенства на различные должности.
Со второй половины XVI в. наблюдается дальнейшее оформление феодальной иерархии. Появляется другая группа феодального класса, известная под названием чанки-беки и сала-уздени. Чанками назывались дети владетелей, рожденные от неравного брака и не имевшие права на наследование земли, подобно бекам, они также несли вассальную службу у ханов, шамхалов и уцмиев. Начавшийся задолго до описываемого периода процесс имущественной дифференциации привел к выделению категории разбогатевшего узденства, стоявшего уже ближе к феодальному классу. На Кумыкской плоскости эти потомственные уздени назывались сала-узденями. В южной части Тарковского шамхальства утвердилось название уллу-уздень (большой уздень), в русских источниках XVII в. они известны под названием первостепенных узденей. Узденство владений нагорного Дагестана тоже не было однородно. Однако в связи с тем, что процесс дифференциации происходил здесь медленнее, разбогатевшая узденская верхушка по своему положению, хотя и близко стояла к крестьянам, по-прежнему именовалась узденями.
Основная масса крестьянства состояла из лично свободных — узденей. Однако, за иск- ключением первостепенных, разбогатевших или родовитых узденей, значительно большая часть узденства Дагестана находилась в различной степени зависимости от феодалов. Часть узденей обязана была выплачивать подати и нести повинности за пользование феодальными пастбищными землями или по внеэкономическому феодальному принуждению, а другая часть продолжала еще сохранять свою личную независимость. Но все узденство феодальных владетелей Дагестана обязано было нести обязательные повинности: по указанию главы владения участвовать в войнах, содержать ханские отряды во время их постоя в данном селении, строить крепости и другие оборонительные сооружения, выставлять по требованию ханов и беков рабочий скот для перевозки тяжестей. Обязательными являлись и всевозможные подношения ханам и бекам в праздники, при рождении детей и т. д., а также всевозможные подношения в пользу мечети ко дню религиозных мусульманских праздников и т. д.
На положении крепостных находились раяты, сидевшие на частновладельческих землях или же на землях, пожалованных в условное владение бекам и служилому узденству.
В XVI—XVII вв. во владениях Дагестана имелись целые раятские села — такие, как Амишта, Текита, Мосшул, Хин — в Аварии; Тулизма, Хури и др. — в Казикумухском ханстве; Терекеме — в Кайтаге.
Данные источников XVI—XVII вв. не дают полной картины правового положения раят в их отношении к личности феодального владетеля. Например, беки имели право на взимание податей и других поборов с раят и право управления над ними, как над лично зависимыми людьми, прикрепленными к земле.
В XVI—XVII вв. в Дагестане наряду с трудом зависимого крестьянства применялся труд лагов, или рабов. Как и раньше, число патриархальных рабов пополнялось в основном за счет пленных. Рабы свободно продавались. Крупными невольничьими рынками в то время являлись Дербент, Эндрей и др.
В правовом отношении рабы были более принижены, чем другие группы зависимого населения. Убивший раба не подлежал кровной мести со стороны его хозяина или родственников, цена его крови компенсировалась в форме натуральных взысканий.
Рабы имели право на выкуп. При этом имущество, нажитое рабом, переходило в собственность владельца. Освобожденные рабы получали определенные участки земли от их владельцев на владельческих правах, за что они обязаны были нести натуральные повинности в пользу феодалов.
Однако и после освобождения их относили к сословию лагов, и поэтому сохранялись ограничения в правах, в частности в вопросах бракосочетания, если даже они или их по томки приобретали богатство.
В XVI-XVII вв. в Дагестане существовало две формы сельской общины: земледельческая община и община марка. Характерным признаком «земледельческой общины», как указывал К. Маркс, является то обстоятельство, что в ней пахотная земля — неотчуждаемая и общая собственность — периодически переделяется между членами земледельческой общины, так что каждый собственными силами обрабатывает отведенные ему поля и урожай присваивает единолично.
Такая община существовала в приморском и предгорном Дагестане. Однако первоначальный порядок равного дележа общественных пахотных участков к XVI—XVII вв. был коренным образом видоизменен. Феодалы закрепили за собой право первого выбора переделяемых участков и при этом присваивали себе по нескольку наделов. Характерно, что периодическим переделам подвергались в основном поливные земли, а богарные участки находились в наследственном пользовании отдельных семей.
Сельские общины в приморском и предгорном Дагестане находились в разной степени феодальной зависимости, начиная от крепостного состояния до простого обязательства нести некоторые повинности в пользу феодалов.
По своему характеру сельские общины, находящиеся под властью феодальных правителей, несколько отличались от общин приморского Дагестана. Здесь уже не существовало института периодических переделов пахотных участков. Земля задолго до рассматриваемого времени стала частной собственностью, что является характерным признаком общины; типа западноевропейской марки. Община этого типа уже потеряла свою независимость, стала феодально-зависимой.
Иной была сельская община в нагорном Дагестане. Это- наиболее четко прослеживается в земельных отношениях в общинах союзов сельских обществ. Известно, что купля-про- дажа земли в общинах нагорного Дагестана в XVI—XVII вв. практиковалась относительно широко, и это хорошо иллюстрируют нормы обычного права. Однако наряду с этим в тех же адатах встречается целый ряд пунктов, ограничивающих продажу дома, пахотного участка, сада и т. д. Рядовые общинники пытались отстоять свою землю от захватов феодализирующейся знати, которые участились к XVI—XVII вв. с использованием, в частности, таких институтов, как право предпочтительной покупки, выкупа. Не случайно поэтому в дагестанских адатах встречается целый ряд пунктов, свидетельствующих о возможных притязаниях родственников, а иногда и соседей на продаваемую недвижимость.
Институтом предпочтительной покупки пользовались не только члены одной родственной группы или одной сельскойобщины. В некоторых случаях союз сельских обществ, разрешая куплю-продажу земли внутри союза, категорически запрещает продажу земли чужаку вне своего общества. Институт предпочтения свидетельствует о начавшейся концентрации пахотных участков в руках общинной верхушки, которая была заинтересована в запрещении продажи земли вне общины.
Итак, мы видим, что общинник в значительной степени был ограничен в праве распоряжения своей недвижимостью. Более того, сельская община до мелочей регламентировала порядок пользования пахотными участками. В некоторых сельских общинах нагорного Дагестана существовала коллективная собственность на пахотные участки. Но, разумеется, не они определяли характер землевладения в общинах нагорного Дагестана. Периодически переделяемые участки служили дополнением к индивидуальному наследственному наделу. Участки пахотных земель, которые находились в коллективной собственности общины, осваивались совместными усилиями всей общины или захватывались у другой, менее сильной общины. Совместные усилия всех членов единого коллектива предопределяли общую собственность на вновь освоенную землю. До определенного времени она реализуется с помощью института периодических переделов.
Чрезвычайно интересна форма реализации общинных пахотных участков в некоторых союзах сельских общин. Так, в Акушинском союзе сельских общин общинную землю сначала делили на количество родственных групп в данной общине, а потом каждая группа (в данном случае тухум) в свою очередь распределяла полученную от общины долю пахоты между входящими в нее малыми семьями. Аналогичные порядки существовали в Андийском и других союзах сельских общин. Такая форма реализации общей собственности в союзах показывает, что здесь отдельный общинник не выступает как самостоятельное юридическое лицо перед общиной. Только принадлежность к определенному тухуму обеспечивала рядового общинника долей в общем пахотном и покосном участке. Реализация общинной земли через тухумы является одной из основных причин сохранения обособленного положения отдельных родственных групп, которые как единое целое входили в состав сельской территориальной общины.
Историческая топография пахотных полей любой дагестанской общины показывает, что пахотные участки отдельных общинников в составе тухумных земель были разбросаны чересполосно в различных местах общинных земель. Поэтому не удивительно, что в общинах существует принудительный севооборот, строгая регламентация всех сельскохозяйственных работ, которая нашла прекрасное отражение в дагестанских адатах. «Если кто пойдет засевать свой пахотный участок раньше, чем другие односельчане, с того взыскивается штраф в размере одной овцы»,— записано в адатах келебских селений.
Такие нормы адатов были характерны для всех дагестанских народов. Начало и конец сельскохозяйственных работ было принято объявлять криком эла. Без разрешения общинной администрации общинник не имел права убирать урожай, хотя он и поспел. Так, в адатах Кахибского общества говорится: «Кто снял урожай ранее объявления дня урожая, без разрешения судей, тот должен платить штраф и отвезти урожай обратно в поле». После уборки урожая пахотные земли и сенокосные участки поступали в распоряжение общины и на этих участках можно было пасти общественный скот. Такая практика возможна только при принудительном севообороте и системе открытых полей.
В таких условиях все общинники были в равной степени заинтересованы в надлежащей обработке всех пахотных участков общинников. Эта заинтересованность выражалась в требовании вывезти в поле определенное количество навоза и прочих удобрений, в том, что засеянные поля поступали под охрану общинной администрации.
Одной из основных характерных черт союзов сельских обществ Дагестана является наличие у них общей альменды, т. е. неподеленных угодий, которые находились в совместном пользовании всего общества или основного ядра его. Примером в этом отношении может служить Гидатлинское общество. Ядром этого общества были шесть селений: Урада, Гинта, Гидиб, Хотода, Гоор и Кахиб, которые совместно владели горой под названием Ахвах му’урул, землями при Большой речке и землями сел. Хучада. Эти земли «являлись общими, поровну между шестью селениями, составлявшими Гидатлинское общество», — сказано в адатах этого союза.
Такие же неподеленные угодья имело и Урахинское общество. Крупные горные пастбища находились в совместном владении Акушинского и других союзов сельских обществ Дагестана.
В сложной внешнеполитической обстановке XVI—XVII вв., когда феодальные правители Дагестана стремились к территориальному округлению своих владений, союзы сельских обществ путем выделения части общей альменды соседним общинам привлекали их на свою сторону. Так, Гидатлинское общество выделяло часть общей альменды обществу Батлух, чтобы последнее присоединилось к Гидатлинскому обществу. Для этих же целей были выделены крупные массивы и урибцам. В случае выхода из Гидатлинского союза общины теряли права на эти земли, которые возвращались обратно Гидатлинскому обществу. В качестве союзника Гидатлинского общества могла выступать любая близлежащая община, которая нуждалась в общественных угодьях. В данном случае можцо отметить то обстоятельство, что общая альменда всегда обеспечивала Гидатлинское общество союзниками, что она была гарантией существования союза как такового.
Наличие общей альменды наряду с другими пережитками патриархально-родового строя сыграло значительную роль в консервации общинных порядков в союзах сельских обществ Дагестана. Нормы обычного права этих обществ в основном знают только две социальные категории: свободный общинник — уздень и раб. Однако это не значит, что в экономическом отношении свободные общинники были однородной массой. Наиболее состоятельная часть общинников уже узурпировала права сельского схода. И не случайно поэтому в это время отчетливо проявляется тенденция к закреплению за состоятельными членами общины общинных должностей и превращению их в наследственные. Люди, «достойные доверия», «хорошие», «мудрые», которые фигурируют в дагестанских адатах, в основном регулировали внутреннюю жизнь общины в своих интересах.
Наиболее крупные общины нагорного Дагестана в XVI— XVII вв. коллективно эксплуатировали слабые общины. Принадлежность к господствующей общине обеспечивала рядового общинника долей дохода с эксплуатируемой общины. В этом отношении характерна форма эксплуатации зависимых общин в Ахтыпаринском союзе сельских общин. Следует подчеркнуть, что общины, зависимые от Ахтынской, были в основном переселенцами из других мест. Кроме того, зависимыми могли быть общины рабского происхождения и общины-поселенцы на землях господствующей общины, выступившей в качестве коллективного эксплуататора. Согласно существующему обычаю, жители одиннадцати общин, зависимых от Ахтынской, обязаны были нести так называемую пахту. Сущность ее заключалась в том, что все ахтынцы имели право на «кормление» по разу в году во всех зависимых селениях и при этом получали сверх того еще одну овцу. Обычно ахтынцы отправлялись на кормление партиями от 100 до 500 человек. Такой же порядок существовал и в Рутульском союзе сельских общин. Гидатлинское общество коллективно эксплуатировало общество Телетл. Некоторые крупные общины брали под свою защиту относительно слабые, за что последние обязаны были принимать самое активное участие в мероприятиях своего патрона. Впоследствии эти патронатные отношения могли перейти в зависимые. Однако эта зависимость была завуалирована патриархально-родовыми пережитками и не получила в силу ряда причин своего дальнейшего развития.
Совершенно иная картина наблюдалась на территории дагестанских феодальных правителей. В социальном отношении общества дагестанских феодальных владений представляли собой типично феодальные общества, где относительно четко прослеживается социальная дифференциация и иерархическая организация, о чем было сказано в предыдущих разделах.
Правда, и в этих феодальных обществах все еще живучи патриархально-родовые пережитки, но не они в конечном счете являются определяющими.
В общинах этого типа пахотные участки задолго до рассматриваемого времени перешли в частную собственность при коллективной собственности на неподеленные угодья. В силу этого община, находящаяся в сфере влияния дагестанских ханств, к XVI—XVII вв. в основном потеряла свою независимость и стала феодально-зависимой. Наиболее четко этот процесс прослеживается в организации суда в этих общинах. Если в общинах «вольных обществ» суд является функцией общины, то в этих общинах право суда переходит в основном к беку или другим феодальным владетелям. Если в общинах «вольных обществ» наказание носит частный характер — кровная месть и частное возмещение убытков, то в общинах дагестанских ханств кровная месть ограниченна, и штрафы идут в пользу бека или центральной власти. Отсюда вытекает, что сельские общины на территории дагестанских ханств в отличие от общин «вольных обществ» потеряли свою независимость и оказались под контролем беков и прочих феодальных категорий. Более того, должностные лица, так называемые «начальники» общин, назначаются центральной властью, а не выбираются, как в «вольных обществах».
В XVI-XVII вв. резко обостряется классовая борьба в Дагестане, что явилось прямым следствием усиления феодальной эксплуатации и прямого грабежа крестьян со стороны феодалов. Классовая борьба выражалась в отказе от несения феодальных повинностей, а поджоге домов и хозяйственных застроек феодалов, в ломке и порче орудий производства, в отказе от участия в походах феодалов и т. д. Нередко феодально-зависимые крестьяне в знак протеста против все усиливавшегося феодального гнета покидали свои насиженные места и совершали побеги из одних владений в другие или на Северный Кавказ, где они оседали в русских городских слободах, в казачьих станицах и т. д.
Нередко феодально-зависимые крестьяне от глухого протеста переходили к активным действиям. Так, в 1553 г. крестьяне агульского селения Тпиг отказались нести феодальные повинности в пользу казикумухского шамхала. В результат те твердой позиции, занятой крестьянами Агула в этом вопросе, Улхай-шамхал вынужден был уступить.
В конце XVI в. крупные волнения зависимых крестьян происходили на другом конце Казикумухского шамхальства, в сел. Кунди, и в других феодальных владениях Дагестана.
В начале XVII в. в Табасаране феодальная эксплуатация была настолько тяжелой, что у крестьян, по словам местной хроники, «иссякло всякое терпение по причине злодейств» феодалов и поэтому феодально-зависимые крестьяне объединенными силами восстали против своих угнетателей. В результате этого восстания много феодалов было убито.
Тем не менее плодами этого восстания воспользовалась другая группа феодалов, добивавшаяся только устранения руками восставших крестьян враждебных им феодалов. После восстания правителем Табасарана стал майсум Герей-хан Джарахский.
Наиболее ожесточенной была борьба между крестьянами. Цахура и местными беками. В результате этой борьбы местные беки и их семьи были полностью истреблены.
Не менее острой была классовая борьба в Кайтаге. В 80-х годах XVI в., при уцмии Гасан-Али, Здесь вспыхнуло восстание раят, закончившееся выселением беков в Янгикент.
При уцмии Ахмед-хане восстали крестьяне сел. Башлы. В конце XVI в. неоднократно восставали крестьяне Урджемильского магала. Однако каждое восстание зависимых крестьян жестоко подавлялось.
Аналогичные формы классовой борьбы наблюдались и в Аварии. Союзы сельских обществ Хиндалал, Гидатль, Карата, Анди и ряд других неоднократно поднимали восстания против аварских ханов. В этой затянувшейся борьбе против феодального закабаления сельских общин крестьяне Гидатлинского союза сельских общин выдвинули из своей среды легендарного Хочбара, который в течение ряда лет успешно возглавлял борьбу крестьян Гидатля против аварских ханов.
Ожесточенную борьбу против аварских феодалов вели и андийцы. Аварские феодалы постоянно стремились к феодальному закабалению Андийского союза сельских общин. Однако андийцы успешно отражали все попытки аварских феодалов заставить их нести феодальные поборы. Более того, в одном из сражений был убит аварский феодал Турлав.
В начале XVI в. в Дагестане имелись относительно крупные феодальные владения: шамхальство, ханство Аварское, уцмийство Кайтагское, майсумство Табасарана и целый ряд союзов сельских обществ.
новых владений
В шамхальство до середины XVI в. входили земли, населенные кумыками, лакцами, даргинцами и другими народами Дагестана. Резиденция шамхальства находилась в Ка- зикумухе. Однако отсутствие тесных экономических связей между отдельными частями, неравномерность развития феодально-производственных отношений, феодальные раздоры и междоусобицы, децентрализация аппарата и этническая пестрота обусловили распад шамхальства и образование ряда новых феодальных владений. Особенно этот процесс усилился во второй половине XVI в., в период правления Чопан-шамхала (ум. в 1577 г.). Шамхальство раздробилось на ряд уделов, где укрепились родственные между собой ветви феодальных владетелей, которые не всегда подчинялись центральной власти, нередко вступали даже в борьбу с шамхалом. Власть в уделах сосредоточивалась в руках одной семьи или группы родственников.
После смерти Чопан-шамхала сыновья его Эльдар, Магомед, Анди и Гирей попытались лишить наследства своего брата Султан-Мута, рожденного от кабардинки из рода Анзоро- вых. Тогда Султан-Мут отправился в Кабарду и с помощью родственников по матери собрал вооруженный отряд и силой утвердился в засулакской Кумыкии. Владение Султан-Мута стало называться Эндреевским (по названию главного селения). Со временем Эндреевское владение в свою очередь распадается на три части: само Эндреевское владение, Аксаевское и Костековское. Одновременно образовались также полунезависимые от центральной власти уделы: Карачагское, Кумторкалинское, Кафыркумухское, Какашуринское, Эрпелинское, Карабудахкентское, Бойнакское и др. В XVI в. на территории засулакской Кумыкии образовалось Тюменское владение Мамай Агишева, основным населением которого были ногайцы и тюменские татары, жившие у урочища Бурунчук. Однако со строительством русской крепости Терки это владение прекратило свое существование, а население в основном расселилось по засулакской Кумыкии.
Вся централизаторская политика престарелого Сурхай- шамхала, пришедшего на смену Чопан-шамхалу, не привела к упрочению пошатнувшегося положения шамхальства и разбивалась о сепаратистские тенденции удельных правителей.
Сепаратистские устремления удельных правителей особенно усилились к концу жизни Сурхай-шамхала в связи с обострением классовых противоречий и усилением вмешательства во внутренние дела Дагестана турецких и персидских захватчиков. И хотя термины «шамхальство» или «Шевкальская земля» еще употреблялись в XVI в., объединенного государства уже не существовало. Напротив, шел интенсивный процесс дальнейшего распада, сопровождавшийся бесконечными междоусобицами.
Одной из главных причин феодальных войн и столкновений был порядок замещения шамхальского престола. В это* время достоинство шамхала не было наследственным по прямой линии и не закреплялось за каким-либо уделом. Шамхалов выбирали из старших членов шамхальского рода. Одновременно утверждался и крым-шамхал —будущий шамхал. Но, как правило, передача шамхальского достоинства, так же как и достоинства владетеля удела, происходила в жестокой борьбе между претендентами.
В начале XVII в., когда умер шамхал Сурхай, за престол шамхала разгорелась ожесточенная борьба между крым- шамхалом Андием и тарковским Гиреем. В эту борьбу были втянуты и другие владетели Дагестана. На стороне Андия были эндреевский, кайтагский и аварский владетели, а на помощь Гирею по его просьбе прибыл русский отряд войск.
В первой половине XVII в. неоднократно разгоралась борьба за престол шамхала между тарковским и эндреевским владетелями. Усобицы происходили также между владетелями уделов нагорного Дагестана и шамхалом. В начале 1616 г. шамхалом был избран кафыркумухский владетель Андий (ум. в 1621 г.), вслед за тем престол перешел к Ильдару Тарковскому (ум. в 1634 г.). После смерти его шамхалом должен был стать эндреевский Султан-Магмут, но он отказался от престола в пользу сына Айдемира. В. 1641 г. шамхал Айдемир погиб в неудачном походе на Кабарду. Шамхалом стал Сурхай Тарковский, племянник шамхала Ильдара.
Но бывали времена, когда феодальные междоусобицы в силу ряда обстоятельств прекращались. Внешняя опасность ставила феодалов перед необходимостью урегулировать свои взаимоотношения, для чего созывались съезды, на которых устанавливали «одиначество» (феодальные договоры). Предпринимались безуспешные попытки установить преемственность престола шамхала. Но и эти съезды и «одиначества» не могли приостановить закономерности исторического развития. Не успевали владетели вернуться в свои владения, как между ними вновь возникали междоусобицы.
В результате этих междоусобиц отдельные уделы шамхальства превращались в самостоятельные владения, лишь, номинально входившие в шамхальство.
В начале XVII в. шамхалы основной резиденцией сделали Тарки и Бойнак, а в Казикумух приезжали лишь в летнее время. К этому времени в Казикумухе образовалась сильная партия, стремившаяся освободиться из-под власти шамхалов. В 40-х годах XVI в. казикумухцы подняли восстание и изгнали прибывшего на лето шамхала. Освободившись от власти шамхалов, казикумухцы добились смены правителей, назначавшихся шамхалами, правителями, выбираемыми на собрании феодальной знати. Это собрание получило название «къат1» и ввело новый титул правителя Казикумуха — халклавчи [1]. Первым казикумухским халклавчи являлся Алибек, который принадлежал к побочной ветви шамхальской фамилии, оставшейся в Кумухе.
Кумухский къат1, в котором руководящая роль принадлежала феодальной знати, становится хозяином в Кумухе. Главной же обязанностью халклавчи являлся сбор ополчения и предводительство им во время военных действий, а также некоторые функции исполнительной власти. Особого содержания халклавчи не имел, пользовался он только доходами с пастбищных гор и пашен, получал часть податей, взыскивавшихся преимущественно баранами и хлебом с Варкун-Даргуа и Арчи, и определенную часть военной добычи.
Примерно в этот же период от шамхальства отделились верхнедаргинцы и образовали независимый союз сельских обществ Акуша-Дарго. Самостоятельными стали Цахурское владение, Рутульский, Агульский и другие союзы сельских обществ Южного Дагестана. В начале XVII в. резиденция цахурских владетелей была перенесена в сел. Элису, а само владение преобразовано в Элисуйское султанство. В связи с распадом шамхальства достоинство шамхала окончательно утвердилось за владетелями Тарков, т. е. сложилось новое самостоятельное владение, шамхальство Тарковское.
С распадом шамхальства в XVII в. образовалось и Мехтулинское ханство. Согласно преданиям, основателем ханства был один из отпрысков шамхальского рода по имени Мехти, который еще в первой половине XVII в. являлся удельным правителем шамхальства в сел. Дургели. После распада шамхальства под его власть попало население аулов Большой и Малый Дженгутай, Апши, Ахкент, Оглы, Кулецма, Чоглы, Ка- ка-Шура, Урма, Параул.
В XVI веке территория, населенная табасаранцами, объединилась в самостоятельное владение — майсумство.
В начале XVII в. Табасаранское майсумство подчинило своей власти ряд пограничных лезгинских селений. Майсумство особенно усилилось в период правления Зихрарова и его сыновей Ак-Майсум-хана и Хусен-хана Майсума в середине XVII в. Однако и в Табасаране усиливаются центробежные силы.
В южной части Табасарана укрепляется власть кадиев, которые, воспользовавшись внутренними неурядицами, со временем образовали полунезависимое владение кадиев Табасарана.
Одним из влиятельных владений Дагестана XVI—XVII вв. было Кайтагское уцмийство.По неполным данным, в подданстве уцмия находилось от 40 до 60 тыс. населения. Этнически это население не было однородным.
В Кайтаге власть уцмия, так же как и в шамхальстве власть шамхала, не передавалась по прямой линии. Достоинство уцмия получал один из старших в роде. Этот порядок передачи престола в условиях XVI—XVII вв. часто приводил к столкновениям между претендентами на престол.
В 40-е годы XVII в. в Кайтаге начались феодальные междоусобицы, в которые были втянуты и другие феодальные владения. Этим воспользовались персидские шахи и возвели на престол своего ставленника — уцмия Амир-хан-Султана. Кровавые столкновения за власть в Кайтаге происходили и во второй половине XVII в.
В итоге дом уцмиев разделяется на две партии, одна из которых укрепилась в Маджалисе, а другая — в Великенте. Старшие из этих партий становились уцмиями и имели резиденцию в сел. Башлы. Однако недовольная порядком престолонаследования великентская партия напала на Маджалис и истребила всех претендентов на уцмийство, исключая малолетнего Гусейн-хана, увезенного к шамхалу. По достижении совершеннолетия Гусейн-хан обосновался в Иране, где разбогател и приобрел известность в правящих кругах. Назначенный владетелем кубинским Гусейн-хан пытался овладеть уцмийским престолом. В 1689 г. Гусейн-хан вторгся в Кайтаг и захватил Башлы, но уцмий Али-Султан с помощью собранных в горах войск вытеснил его. Сын Гусейн-хана Ахмед- хан, ведя борьбу за престол уцмия с помощью кубинцев, овладел резиденцией Кайтага, сел. Башлы, уцмий же Амир Гам- за бежал в нагорный Кайтаг, где и умер. Его сын собрал войско и вытеснил Ахмед-хана из Башлов в Маджалис, где тот вскоре был убит своими приверженцами. Уцмием стал сын Амира Гамзы Ахмед-хан. Таким образом, уцмиям Кайтага, несмотря на все усиливавшиеся центробежные силы, удалось сохранить единство владения. Лишь в конце XVII в. на границе с Тарковским шамхальством образовалось полунезависимое от власти уцмия султанство Утамышское.
В XVI-XVII вв. Дербент представлял собой незначительное по территории владение. В его состав входил ряд близлежащих лезгинских селений. Дербент к этому времени потерял свою самостоятельность и входил в состав Ирана в качестве отдельного «улка». Правителями города стали хакимы, а затем султаны, назначавшиеся иранскими властями.
В конце XVI в. правителем Дербента был Хаджа-Мухаммед, изъявивший покорность шаху в 1606 г., в 1622—1623 гг. шахским султаном в Дербенте являлся Бархудар-султан.
В 1628 г. хакимом Дербента и начальником местного ополчения, состоявшего из газиев, был Фаррух-султан, из выслужившихся шахских гулямов. Последующие правители с титулом султана разделяли власть с наибами из местной знати. Дербент служил для шаха опорной базой для наступления на Дагестан, поэтому шах систематически поддерживал дербентский гарнизон людьми и вооружением, а правящую верхушку одаривал земельными участками.
Аварское ханство в XVI-XVII вв. было одним из сильных феодальных владении Дагестана. В отличие от шамхальства, в Аварии происходило укрепление ханской власти. Наметилась тенденция передачи достоинства нуцала наследнику по прямой линии и централизации аппарата. Ханы Аварии в XVI—XVII вв. прилагали все силы для того, чтобы подчинить своей власти соседние территории. Воспользовавшись убийством гумбетовского и арагунского беков из дома Турулавов, аварские владетели захватили нижнюю часть Мичихиче (Чеченшали, Гермек-чукшали, Атагу и прочие населенные пункты).
Границы ханства расширялись и в периоды правления Нуцал-хана (ум. в 1568 г.), и Умма-хана (ум. в 1634 г.), и Мухаммеда (ум. в 1668 г.), и Дагрунуцала (ум. в 1699 г.). К концу XVII в. Аварское ханство объединило уже не только земли, расположенные вдоль Аварского Койсу, но и распространило свою власть на андодидойский участок и Джаро-Белоканы.
феодальных владений
Политический строй феодальных владений Дагестана соответствовал уровню их со- циально-экономического развития и был тесно связан с процессом феодальной раздробленности, с цепью вассальных, служебных обязательств. Шамхалы, ханы, уцмии, майсумы являлись полновластными хозяевами в своих владениях. Они имели права сбора налогов и верховного суда, разбора всевозможных конфликтов между обществами или же частными лицами, взимания таможенных пошлин, объявления войны и заключения мира, регулирования торговых и политических связей. Формально шамхалы, ханы, уцмии выбирались на высшем совете представителей патриархально-феодальной знати из числа правящей фамилии по принципу старшинства. Однако, как мы видели выше, этот принцип часто нарушался, и замещение престола правителей происходило в обостренной обстановке междоусобных столкновений и войн.
Владетели — шамхалы, ханы, уцмии, майсумы осуществляли свою власть при помощи везиров, казначеев, приказчиков, нукеров. Везиры являлись предводителями военных отрядов и играли значительную роль в управлении государством. Приказчики несли службу при дворе и выполняли обязанности приставов.
В связи с установлением и развитием торгово-экономических и политических связей с соседними государствами появляется должность абыза — переводчика. Влиятельное положение при дворе владетеля занимали муфтии, шейхи, кадии и другие лица местного мусульманского духовенства.
Очень часто во время переговоров правители использовали своих аталыков (дядек-воспитателей) и молочных братьев— имальдышей. В дагестанских феодальных владениях аталычество и связанное с ним молочное родство была весьма распространено и имело определенный классовый характер. Важное значение при решении вопросов войны и мира и определении отношения к тому или иному соседнему государству придавалось обычаю куначества. В целях урегулирования добрососедских отношений феодальные правители стремились сблизиться между собой, заключая брачные союзы. Так, сыновья шамхалов были женаты на дочерях аварских ханов. Шамхалы и аварские ханы для этой цели вступали в брачные союзы с кумыкскими правителями, а кумыкские правители имели связи с кайтагскими.
Во время конфликта правителей с каким-либо обществом других народов очень часто привлекались представители общинной знати различных селений. Так, например, для решения разбора иска, предъявленного шамхалом жителям лезгинского селения Зулар, были привлечены представители различных обществ и народов: агульских селений Худхул и Дулдуг, рутульского селения Курдал, лезгинского селения Араг, лакских селений Кайя и Кумух и др.
В целом административный аппарат не был сложным. Административное устройство в удельных владениях было еще проще и примитивнее. Здесь отсутствовали специальные административные должности и всеми хозяйственными и политическими делами занимались беки. Находившиеся в их распоряжении нукеры, набиравшиеся из среды влиятельного узденства, несли некоторые полицейские функции: участвовали в сборе податей, приводили в исполнение судебные решения, несли службу по охране границ в сторожевых башнях и крепостях. Во время войн нукеры являлись ядром феодального ополчения. Ханы, шамхалы, уцмии, майсумы стояли не только во главе своего военного отряда, но и всех военных сил, выставляемых подвластным населением.
При решении многих вопросов внутренней жизни большое значение придавалось собранию, превратившемуся к этому времени в сход военных начальников, беков, кадиев и новой нарождавшейся общинной знати.
Власть на местах осуществляли сельские старшины, которые у кумыков и даргинцев назывались къарт, у аварцев — чухби, у лакцев — куначу, у табасаранцев — кевха. Сельские старшины выбирались на сельских сходах — джамаатах.
На должность старшины выбирали наиболее почетного человека; кроме того, во многих джамаатах эту должность занимали одни и те же лица в продолжение ряда лет. Нередки были случаи, когда феодальные владетели сами назначали сельских старшин.
Старшины занимались решением всех вопросов хозяйственной и общественной жизни джамаата, руководствуясь существующими адатно-правовыми нормами. Феодальные правители поручали старшинам сбор податей и обязывали их следить за выполнением членами общества феодальных повинностей.
К администрации джамаата относились также тургаки, чауши, мангуши, выбираемые также на собраниях джамаатов ежегодно в количестве от одного до четырех человек, в зависимости от величины аула. Чауши приводили в исполнение приказания старшин и кадиев, решения джамаата, наблюдали за порядком, следили за охраной земель.
В XVI—XVII вв. в Дагестане существовал ряд аварских, даргинских и лезгинских союзов сельских обществ. Однако происходящие в них социально-экономические изменения привели и к преобразованию общинного управления, хотя оно все еще продолжало сохранять элементы патриархально-родового строя. Такие черты былого демократизма, как выборность должностных лиц общины, контроль со стороны общинников за их деятельностью и т. д., постепенно сходили на нет. Общинная верхушка, ближайшее окружение кадиев союзов сельских обществ, эти «мудрые» и «достойные» люди, которые фигурируют в адатах XVII в., настолько укрепились в общинах, настолько обособились от рядовой части общинников, что практически сумели узурпировать права сельского схода при решении важнейших вопросов. Такая практика привела к тому, что в некоторых союзах сельских обществ былые выборные должности постепенно становятся наследственными.
Высшим органом управления союзов сельских обществ; Дагестана в XVI—XVII вв. оставался сход представителей всех сельских общин, входящих в данное общество, собираемый в определенном месте. Фактически в сходе союзов сельских обществ принимало участие определенное число пред ставителей сельской знати и мусульманского духовенства,, которые от имени всего народа принимали решения, исполнение которых было обязательным для всего союза сельских обществ. Таким образом, сход союзов сельских обществ Дагестана в XVI—XVII вв. стал уже органом, представляющим интересы сельской знати.
На сходах обсуждались важнейшие вопросы внутреннего управления, мира и войны, взаимоотношения с феодальными правителями Дагестана и другими союзами сельских обществ. Кроме того, на сельских сходах принимались новые адатные нормы, которые становились обязательными для всех жителей данного союза сельских обществ.
В некоторых вольных обществах Дагестана (Ахты-пара) все важнейшие вопросы, касающиеся всего вольного общества в целом, решались не сходом представителей сельских общин, входящих в данное вольное общество, а так называемым советом аксакалов. В данном случае права всех одиннадцати сельских общин, составлявших Ахтыпаринское вольное общество, были узурпированы ахтынцами в лице совета аксакалов, численностью в 40 человек по одному от каждого тухума сел. Ахты. Ахтынцы составляли как бы привилегированное сословие в обществе и выступали в качестве коллективного феодала, о чем было сказано выше. Сложившийся социально-экономический строй в Ахтыпаринском вольном обществе привел к тому, что вся власть вольного общества была сосредоточена в центре этого общества, т. е. в Ахтах. Совет аксакалов назначал исполнителей, чаушей, и с их помощью управлял обществом. Правда, кандидатуры чаушей, предложенные аксакалами, должны были быть одобрены джамаатом Ахтов. Аналогичные порядки существовали и в Рутульском вольном обществе.
Дальнейшая эволюция общинного управления в вольных обществах Дагестана в сторону феодализации отдельных институтов его наиболее четко прослеживается в Акушинском вольном обществе. Если в других вольных обществах Дагестана сход все еще продолжал оставаться высшим органом власти вольного общества, то в Акуша-Дарго параллельно со сходом имеется высшее должностное лицо общества — кадий.
Низовой административно-политической единицей вольных обществ Дагестана являлась сельская территориальная община — джамаат, который имел свое собственное управление. В джамаатах все еще довольно велико было значение сельского схода. Однако к XVII в. и местные общинные органы в основном были направлены на защиту общинной верхушки, о чем говорят многочисленные адаты XVII в. Сельская община управлялась советом старейшин, который избирался на сельском сходе, опять-таки из числа сельской знати. Количество старейшин находилось в прямой зависимости от количества тухумов или кварталов в каждом ауле.
Совет старейшин занимался вопросами повседневной хозяйственной и политической жизни аула. Он следил за правильным использованием общинных угодий, порядком сева, уборки и прочих сельскохозяйственных работ, за благоустройством села, исправностью дорог, мостов и т. д. И в распоряжении совета находилось определенное количество исполнителей полицейских функций. В некоторых вольных обществах (Акуша-Дарго) деятельность старейшин контролировали сельские суды. Последние в случае необходимости могли собирать сельский сход и поставить вопрос о снятии с должности старейшины. Этот порядок являлся отголоском былого демократизма, когда народ контролировал деятельность старейшин. В каждом джамаате имелся один глашатай, ман- гуш, который доводил до сведения членов джамаата решения старейшин.
Духовные дела в джамаатах разбирались кадиями селений или будунами.
Итак, мы видим, что общинное управление в союзах сельских обществ Дагестана в XVI—XVII вв. еще продолжает сохранять черты былого демократизма. Но в то же время уже четко прослеживается характерная для всех вольных обществ тенденция перехода власти сельских общин в руки феодализирующейся знати. Последняя была заинтересована в сохранении старых форм власти, но, разумеется, с изменением их действительной сущности. В то же время власть отдельных кадиев, сельских старшин имеет тенденцию к наследственности. Одно это обстоятельство говорит о далеко зашедшем процессе превращения административных лиц общины «из слуг… в господ над ними».
Основными источниками действующего права у народов Дагестана являлись адат, т. е. совокупность норм обычного права, и шариат — свод мусульманских религиозных законов. Обычное право определяло нормы поведения в обществе, регулировало внутреннюю жизнь общин и их взаимоотношения, регламентировало деятельность центральных и местных учреждений.
Несмотря на упорное стремление мусульманского духовенства, шариату не удалось вытеснить существовавшее в Дагестане обычное право. По шариату разбирались в основном дела по семейному праву, а также касавшиеся духовных завещаний, опеки, продажи рабов.
Нормы адата имели преобладающее значение, так как закостеневшие законы шариата, не подлежавшие изменениям, были непригодны для проведения в жизнь в конкретных социально-экономических условиях края. Классовая сущность шариата выражалась в утверждении и обосновании естественности и незыблемости феодальных порядков. Проповедуя учение о предопределении человеческой судьбы, шариат внедрял в сознание народных масс необходимость смирения и покорности, полного повиновения власти. Органически связанный с догмами религии, шариат культивировал темноту и невежество, -поддерживал и консервировал силу реакционных предрассудков и привычек.
Между адатом и шариатом, взаимно противоположными по своему существу, в рассматриваемый период не было резких проявлений антагонизма.
Такое положение обусловливалось тем, что адат и шариат выполняли единую социальную функцию и служили господствующему классу надежным орудием для эксплуатации народных масс.
Светские феодалы, осуществляя судебные функции, получали немалые доходы за разбирательство дел и поэтому всячески поддерживали адат. Стремясь к расширению области применения шариата, духовенство в свою очередь рассчитывало на извлечение материальных выгод при решении споров по шариату:
К периоду XVI—XVII вв. адат подвергся определенному влиянию шариата, некоторые правила шариата стали нормами действующего местного права, в особенности семейного и наследственного. Однако адат как самостоятельная система права с присущими ей особенностями в это время и в последующий период сохранял весьма прочные позиции.
В обстановке усиления классовых противоречий в обществе социальные верхи стремились нормировать почти все проявления общественной жизни горцев. Добиваясь установления и закрепления угодного ей административно-правового режима джамаатов, местная знать устанавливала штрафы и взыскания за отступление от определенных правил, имевших силу местных законов — адатов.
Общинные формы организации хозяйства и быта вызвали к жизни специфические адаты, регулирующие взаимоотношения членов сельской общины в процессе хозяйственно-трудовой деятельности.
Дагестанские джамааты, несмотря на то что кровнородственный принцип расселения изжил себя задолго до XVI — XVII вв., оставались по-прежнему крайне замкнутыми объединениями со своим внутренним самоуправлением. В ряде сельских обществ устанавливался запрет на проживание чужесельца; за предоставление приюта с нарушителя за каждый день проживания взыскивался штраф. Во многих селениях предусматривалась ответственность тех, кто, выдав дочь или сестру замуж за иносельца, оставлял ее в своем джамаате. Без согласия сельской администрации и кадия не разрешалось посылать жителя другого аула к своему односельчанину для сватания, развода или примирения.
В XVI—XVII вв. в Дагестане повсеместно развертывается острая классовая борьба. С углублением и расширением процесса феодализации господствующая знать нуждалась в пересмотре норм обычного права и закреплении тех из них, которые наиболее четко отражали власть и привилегии социальной верхушки. В этих целях, а также в интересах укрепления центральной феодальной власти и ограничения внутреннего самоуправления сельских общин в XVI—XVII вв. возникают судебники официального происхождения. До нас дошли три судебника — «Постановления кайтагского уцмия Рустем-хана», «Кодекс Умма-хана Аварского (Справедливого)», «Гидатлинские адаты».
В источниках, в частности в местной исторической хронике «Асари Дагестан», принадлежащей перу дагестанского просветителя Гасан-Эфенди Алкадари, имеется указание на существование до этих судебников, возникших в начале XVII в., законодательного памятника кайтагского уцмия Султан-Ахмеда, жившего в XVI в. По его указанию были записаны обычаи и распоряжения, одобренные прежними уцмиями и касающиеся управления делами населения. Этот сборник, переданный, по словам Алкадари, главному кадию магала, должен был служить руководством в судах при решении народных дел. Нововведения Султан-Ахмеда, в частности сборник права, были установлены, по его выражению, в соответствии с обстоятельствами. Суть этих обстоятельств, по мнению издателя хроники, сына Гасана-Эфенди Алкадари, заключалась в изменении соотношения сил в бекско-раятских районах Кайтага в пользу беков.
Есть все основания (полагать, что такой сборник существовал в действительности.
Самобытные юридические памятники Дагестана XVI—- XVII вв. возникли в результате сдвигов в развитии социально-экономических отношений и укреплении государственно-правовой системы.
уцмия Рустем-хана»
Судебник, получивший название «Постановлений кайтагского уцмия Рустем- хана” был опубликован А. В. Комаровым в 1868 г. хана. Оригинал «Постановлений», составленный на кайтагском диалекте даргинского языка, обнаружить пока не удалось. А. В. Комаров и Ф. И. Леонтович датировали «Постановления» XII в. Однако М. М. Ковалевский на основании хранящейся в Дербенте рукописи пришел к правильному выводу, что «Постановления» составлены уцмием Рустем-ханом, который правил с 1601 по 1631 г. н. э.
«Постановления» Рустем-хана, по мнению М. М. Ковалевского, являются одним из интереснейших памятников кавказского права, заслуживающим не меньшего изучения, чем армянский кодекс Мхитара Гоша или законы грузинских царей— Георгия V, Агбуги и Вахтанга VI. Ф. И. Леонтович также считал, что по своему содержанию сборник Рустем- хана принадлежит к числу важнейших памятников древнего права кавказских народов. Научная ценность и значимость памятников, являющихся результатом кодификаторской деятельности местной государственной власти — ханов, уцмиев и т. д., определяется тем, что они дают возможность проследить процесс превращения норм обычного права в закон и дают представление об уровне развития взглядов народов Дагестана в соответствующие периоды.
В судебник кайтагского уцмия Рустем-хана вошли наиболее важные адаты, единообразное применение которых отвечало интересам феодальной верхушки.
На разбирательство дел по судебнику требовалось письменное разрешение уцмия, осуществлявшего верховную судебную власть.
Сборник Рустем-хана, как и всякий памятник раннефеодального права, включал разновременные пласты правовых норм. В нем отчетливо прослеживаются весьма древние нормы, уходящие своими корнями к эпохе патриархально-родового строя, и сравнительно новые правовые обычаи, возникшие в результате углубления феодальных отношений.
В «Постановлениях» Рустем-хана сделана попытка обосновать необходимость и естественность феодальной власти. «В государстве без правителя, в обществе без суда, в стаде без пастуха, в войске без разумного, в селе без головы—добра не будет», — так гласил один из афоризмов, а другой, неоднократно повторяемый, — «Кто будет беречь рот свой, того и голова будет спасена»,— настойчиво внушает мысль безропотности и покорности. Этой же цели служила религия, и не случайно невыполнение религиозных обрядов или молитв признавалось судебником Рустем-хана уголовно наказуемым.
За невыполнение постановлений уцмия также было установлено наказание. Крупный штраф взыскивался с того, кто не вышел по тревоге уцмия или не явился в диван при разборе жалобы.
Несогласие с джамаатом также признавалось преступлением и наказывалось крупным штрафом, а жители, отказывавшиеся руководствоваться предписаниями уцмия, изгонялись из Кайтагского уцмийства.
В сборнике Рустем-хана большинство норм относится к уголовному праву и процессу.
Имущественные преступления в «Постановлениях» Рустем-хана не имеют особой классификации. Почти все преступления против собственности объединяются под названием «воровство». Различались виды простого квалифицированного воровства, а также покушение на воровство. Квалифицированным воровством признавалось похищение имущества из мечети. Ответственность за воровство в связи с укреплением института частной собственности резко усилилась. С вора или его родственников взыскивалась десятикратная стоимость похищенного.
В судебнике Рустем-хана принимали во внимание степень вины и другие обстоятельства, характеризующие преступление. Преследование воровства приобретало характер общественной функции.
В период составления судебника Рустем-хана значительное место в общественно-правовой жизни занимали пережитки родового строя: кровная месть, самоуправный захват имущества — ишкиль, присяга и соприсяжничество. Эти институты прошлого в кайтагском своде подвергались определенной регламентации. «Постановления» кайтагского уцмия предписывали выполнение ряда правил для признания захвата имущества. Запрещалось изъятие имущества без свидетелей. Никто не имел права сопротивления, когда у него брали скот или другое имущество. Особо строго каралось воспрепятствование изъятию имущества внутри селения. Разрешение на захват имущества зависело от усмотрения сельской администрации, что придавало этому древнему институту роль важного орудия эксплуатации рядовых членов общества.
Много внимания в «Постановлениях» уделялось регламентации кровной мести. В зависимости от тяжести совершенного преступления «Постановления» в каждом отдельном случае предусматривали число канлы (кровников) — обычно два: или семь человек. Во избежание кровопролития канлы должен был в установленный срок покинуть селение, в котором находились родственники убитого. Этой же заботой о сохранении мира среди жителей обусловлен запрет сопровождать канлы к кадию или обществу на разбирательство какого-либо дела. Всякое содействие мстителю, хотя бы даже указанием местонахождения канлы, строго наказывалось. Доносы на канлы считались настолько опасными, что «Постановления» требовали «доносчика и членов его семьи считать кровными врагами». Убийство доносчика потерпевшей стороной не вызывало кровной мести.
Стремление уменьшить число убийств на почве кровной мести в «Постановлениях» проявляется также и в том, что они обязывают принимать канлы в свое общество. Если же канлы покидал селение, жителям запрещалось его сопровождать.
Регламентация кровной мести имела отчетливую тенденцию заменить кровную месть денежным выкупом. Одна из статей «Постановлений» устанавливает: «Если кто-либо умрет от ран, нанесенных несколькими лицами, то двоих из них считать кровными врагами и, по умерщвлении одного, с другого брать шестьдесят рублей». По истечении срока изгнания канлы за известный выкуп и угощение родственников убитого мог искать примирения.
Несмотря на очевидную тенденцию к ограничению кровной мести, обычай кров о мщения еще сохранил свою силу вследствие ‘слабости и неразвитости органов государственной власти.
Следует отметить, что не всякое убийство считалось преступлением. Убийство при обороне, убийство посягающего на имущество, жилище, честь и т. п. не влекло за собой ни- наказания со стороны публичной власти, ни кровной мести со стороны родственников убитого.
Основными наказаниями в кайтагском обычном праве XVII в. являлись крупные штрафы, разрушение дома в случае особо тяжких преступлений и изгнание виновного из общества. Других наказаний «Постановления» Рустем-хана не упоминают.
Несмотря на очевидную тенденцию к индивидуализации наказания, размеры штрафов указывают на то, что кровнородственная солидарность еще далеко не утратила своего значения. Как правило, родственники были обязаны нести коллективную ответственность. Крупные размеры штрафов и выкупных вир вели к разорению и закабалению малоимущих общинников.
Развитие уголовно-правовых понятий в судебнике Рустем- хана— разграничение понятий умысла и неосторожности, подстрекательства, покушения, подготовки к преступлению, отягчающих и смягчающих вину обстоятельств, — указывает на сравнительно высокий уровень правовых воззрений.
Аварского
Другим замечательным памятником права народов Дагестана является кодекс Умма-хана Аварского (Справедливого). Экземпляр кодекса, составленный на арабском языке, был обнаружен в 1945 г. в горах Дагестана среди арабских рукописей и книг. Эта находка подтвердила сведения дореволюционных авторов о существовании у аварцев сборника юридических обычаев, возникновение которого связывалось .с именем правителя Аварского ханства Умма-хана, умершего в 1634 г. Оригинал кодекса хранится в рукописном фонде Института истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР.
В XVI—XVII вв. в Аварском ханстве шел интенсивный процесс централизации и укрепления политической власти хана. Укрепление и расширение власти феодального правителя в Аварии сопровождались установлением на всей территории ханства единых правовых обычаев.
В кодекс Умма-хана Аварского вошли не только нормы обычного права, соответствующие эпохе составления судебника, но и ряд правовых норм значительно более древнего происхождения.
Преобладающее количество норм кодекса регулировало вопросы уголовного права. Кодекс содержит более 30 норм, предусматривающих штрафы за нанесение ранений и увечий. Размеры компенсации очень высоки (до 200 овец)- Штраф определялся в зависимости от тяжести ранения.
Отчетливо прослеживается в кодексе Умма-хана стремление ограничить применение кровной мести. За убийство с родственников убийцы взыскивалось имущественное или денежное вознаграждение, называемое, как и в мусульманском праве, диятом.
Особые правила были установлены в кодексе относительно кровной мести к рабам. Убивший раба не подлежал кровной мести со стороны хозяина или его родственников, убийца лишь уплачивал дият хозяину раба. А если раб убивал узденя, то с владельца раба взыскивался дият и раб изгонялся на три года в канлы.
Кодекс Умма-хана предусматривал также меры, ограничивающие обычай самоуправного захвата имущества должника. Под страхом наказания запрещалось прибегать к захвату имущества без разрешения администрации. Если первоначально имущественный захват имел целью принудить ответчика к исполнению обязательства, то в судебнике Умма-хана ишкиль является лишь средством, чтобы вынудить ответчика к судебному разбирательству.
Применение ишкиля к должнику «из другого края» требовало также соблюдения ряда условий. Истец должен был обратиться к своей администрации, и если она направляла его «в другой край» за долгом, то там он также должен был обратиться к местной администрации с просьбой о взыскании долга. Лишь после отказа в удовлетворении своих претензий он мог прибегнуть к ишкилю.
Много места в судебнике Умма-хана уделялось организации административного управления и суда.
Местная ханская администрация, ограничивая самоуправление джамаатов, постоянно расширяла свои функции. Этот процесс, интенсивно развивавшийся в период составления судебника, был обусловлен усилением верховной власти Умма-хана, стремившегося создать административно-полицейский аппарат для управления подвластной территорией.
Споры между аулами разбирались ханской администрацией. Если аул не присылал своего представителя для участия в рассмотрении спора, аул облагался штрафом в 10 голов овец. В случае, если спорившие не были довольны решением аульского кадия, они могли обжаловать решение муфтию ханской администрации.
Особенностью феодально-административного управления в Дагестане, обусловленной малочисленностью и неразвитостью органов государственной власти, являлось возложение па отдельные аулы определенных обязанностей по поддержанию правопорядка, охране пастбищ и посевов, выполнению распоряжений центральной власти.
Такое положение характерно и для Аварского ханства XVII в. В нескольких случаях предусматривалась коллективная ответственность жителей аула. «Если какой-либо аул нарушит установленный порядок в течение месяца, то с этого аула взыскивается ежедневно по одной овце до укрепления в этом ауле порядка».
По одной овце взыскивалось с аула, если аул в течение месяца находился без муллы.
В ряде случаев соседние аулы должны были выступить на защиту пула, подвергшегося нападению. «Если жители одного аула самоуправно захватят луга и нивы другого аула, при этом нарушив обычаи края и законы кодекса, то аулы должны заступиться и дать отпор нападающим. Если они этого не сделают, то с каждого аула взыскивается по 10 овец».
Имущественные преступления в кодексе Умма-хана не разделяются на различные виды. Кодексу известно только понятие воровства. Воровство наказывалось троекратным возмещением ущерба владельцу и наложением штрафа в пользу администрации хана или общины. В тех случаях, когда вор признавался в краже, о него взыскивалась только стоимость похищенного и штраф.
Обычным средством доказывания факта воровства оставалась присяга. Количество необходимых соприсяжников определялось в зависимости от величины похищенного. За исключением одного случая, когда требовалась присяга 50 соприсяжников, в кодексе Умма-хана, как правило, по наиболее важным делам устанавливалось принятие присяги шестью соприсягателями. В качестве соприсяжников выступали не только родственники, но и односельчане. В отдельных случаях соприсягателей указывал потерпевший.
Ценным историко-правовым памятником, характеризующим организацию общественной жизни и управления в Гидатлинском вольном обществе, является сборник Гидатлинских адатов, принятых, как указано в тексте, старейшинами общества.
Гидатлинский судебник, как и все юридические сборники, возникшие в период становления феодального строя, не знает определенной системы изложения и тем более деления права на отрасли. Преобладающее число норм относится к области уголовного права и судопроизводства. Значительное количество норм касается нарушений общественного порядка, в понятие которого входило неукоснительное выполнение постановления сельской администрации.
Гидатлинский судебник отражает период развития и укрепления частной собственности при одновременном существовании общинной собственности. В частной собственности находились пахотные и покосные земли, скот, хозяйственные постройки и другое имущество. Общинную собственность составляли пастбища, сенокосы и луга. Помимо пастбищ, принадлежавших отдельным джамаатам, в Гидатлинском союзе сельских обществ имелись пастбища, которыми коллективно пользовались все джамааты, входившие в состав территориального объединения. Эти пастбища распределялись каждые семь лет.
Охрана этих земель была возложена на все селения.
Нарушение правил пользования общинными землями признавалось одним из тяжких преступлений. Кошение сена на общинных сенокосах после объявления запрета наказывалось взыскиванием медного котла. Исключительно высокий размер штрафа был установлен с того, кто «спорит и скандалит» с общинной охраной, когда она угоняет его скот с посевов. С виновного взыскивался штраф в размере семи коров и к тому же он обязан был «прокормить 100 человек». По смыслу данной нормы, устанавливающей чрезвычайно крупный штраф, явно несоразмерный причиненному ущербу, данное правонарушение рассматривалось как опасное посягательство на общественный порядок. В то же время эта норма характеризует и степень правовой охраны общинной собственности, сохранявшей в тот период еще серьезное значение.
Значительное внимание в судебнике уделяется охране и укреплению частной собственности. Убийство вора или грабителя в момент совершения преступления не являлось уголовно наказуемым.
Во всех нормах, предусматривающих ответственность преступления против частной собственности, виновный не только возмещал ущерб (иногда в двойном размере), но и платил весьма крупный штраф в пользу джамаата. Нанесение имущественного ущерба отдельному лицу наказывалось от имени общества как действие общественноопасное.
Уровень развития норм, определяющих ответственность за посягательства на различные объекты частной собственности, указывает на возросшее значение института частной собственности. Наказания за попытку кражи, ответственность причастных к воровству отражали развитие принципов феодального права.
В судебнике крайне мало норм, определяющих правовое положение различных социальных групп. Привилегированное положение сельской феодализирующейся знати, представители которой, как правило, занимали должности ‘Старейшин, судей, не получило в Гидатле юридического закрепления.
Судебник упоминает наемных людей, слуг и рабов.
Несколько норм Гидатлинского судебника касается правового положения рабов. За убийство свободного человека рабом хозяин раба платил родственникам убитого выкуп, а за убийство раба свободным человеком была установлена выплата стоимости раба его хозяину. Если хозяин раба оспаривал убийство его рабом свободного человека, то он в доказательство невиновности раба принимал присягу вместе с тремя соприсягателями. Таким образом, в делах кровомщения раб не признавался субъектом права, а рассматривался как объект собственности.
Гидатлинский судебник не содержит специальных постановлений, определяющих деятельность и функции местных органов власти и управления, регулировавшихся в Дагестане нормами обычного права. В отдельных нормах, касающихся различных нарушений правопорядка, упоминаются старейшины, сельские судьи, дибир, общинные охранники (мангуши), глашатай (г1ел), сельские должностные лица, «на обязанности которых лежит надзор за соблюдением порядка», лицо, «коему поручено взыскание дията».
В Гидатлинских обществах, как видно из текста норм, старейшин было несколько. Вероятно, существовал постоянный орган — Совет старейшин. Он осуществлял руководство всеми делами общины.
В каждом джамаате Гидатлинокого союза обществ избиралось несколько судей; количество их, очевидно, зависело от числа тухумов. В случае тревоги «об убийстве, изнасиловании женщины или захвата чужого добра» они обязаны были собираться для принятия мер, так как эти преступления признавались особо опасными. Совершение их могло вызвать столкновение родственников преступника и потерпевшего и, как следствие этого, кровопролитие с обеих сторон.
Номенклатура должностных лиц сельского управления, распределение исполнительных функций, установление определенных норм обычного права как обязательных на всей территории Гидатлинского союза вольных обществ свидетельствуют о том, что Гидатлинский союз являлся объединением, достигшим довольно высокой ступени развития государственно-правовых институтов.
С возрастанием роли и значения органов местной власти в регулировании общественной жизни принимаются меры для ограничения самоуправства отдельных лиц и тухумов. Судебник запрещал обращаться для судебного разбирательства к жителям других селений; с обратившегося и посредника взыскивался штраф —по одному быку. Этот запрет был обусловлен прежде всего необходимостью укрепления аппарата общинной администрации, в том числе общинного суда. Об этом же свидетельствует и взыскание штрафа с того, кто отказывается от судебного разбирательства, что характеризует процесс постепенного укрепления публичных начал в праве и замены самосуда общественными мерами.
В период составления Гидатлинского судебника разбирательство в суде приобрело в значительной степени публичный характер, а сам общинный суд постепенно превратился в специальный орган общинных властей.
Весьма своеобразны нормы судебника, касающиеся уголовного права. Одним из самых тяжких преступлений судебник признавал отказ отдельных лиц или селений от охраны Гидатлинского моста. Нерадивое отношение к охране Гидатлинского моста со стороны отдельного лица или целого общества, приведшее к поджогу моста, наказывалось взысканием штрафа в размере 100 котлов.
Преступлением против общества признавалось переселение жителей в другие общества. Имущество переселенцев переходило в собственность Гидатлинского общества, всякое содействие в сокрытии имущества покидавшего общество наказывалось взысканием штрафа по одному быку в день до возвращения имущества Гидатлинскому обществу.
Из других преступлений, о которых говорится в Гидатлинском судебнике, можно отметить преступления против личности, семьи и нравственности. За убийство была установлена альтернативная ответственность — кровная месть или выкуп в пользу наследников убитого в количестве 30 коров.
Право на месть имели все родственники убитого, являвшиеся его хотя бы самыми отдаленными наследниками, убийство кровника другим лицом вызывало те же последствия, что и при обычном убийстве.
К преступлениям против чести судебник относил и клевету. Однако понятие наказуемой клеветы было ограничено распространением ложных слухов о совершении убийства, изнасиловании и воровстве, относимых к категории особо опасных правонарушений.
Одним из самых распространенных видов наказания было имущественное взыскание. Наряду с выкупами, которые являлись вознаграждением потерпевшему и его родственникам, все большее место занимали в этот период штрафы в пользу общества. В большинстве случаев за совершение различных преступлений одновременно взыскивались выкуп и штраф. Взыскание штрафов не только за причинение ущерба общественному имуществу и нарушение правопорядка внутри джамаата, но и за преступления против личности, ее чести и имуществ: характеризует развитие публичных начал в праве.
Штрафы и выкупы взыскивались, пока у виновного имелось имущество, затем взыскивалось имущество его семьи, родителей, братьев и незамужних сестер, а затем дальних родственников.
Самым тяжелым наказанием, применяемым в исключительных случаях, -являлось изгнание из общества. Тем самым изгнанник лишался помощи и поддержки своих родственников, что в тех условиях было равносильно лишению всех гражданских прав.
Знает судебник и такое наказание, как отвержение преступника всем обществом.
Памятники права Дагестана — Гидатлинские адаты, кодекс Умма-хана Аварского, «Постановления» кайтагского уцмия Рустем-хана — существенно дополняют исторические сведения об организации хозяйства и управления в низовых политических единицах — сельских общинах в XVI—XVII вв. Эти правовые памятники, возникшие примерно в одно и то же время, позволяют проследить общие исторические процессы, происходящие в различных частях Дагестана.
Развитие уголовно-процессуальных понятий, изменения, происшедшие в институтах патриархально-родового строя, указывают на то, что правовые воззрения горцев в XVII в. формировались в условиях становления и развития феодальных отношений. В обычном праве горцев этого периода уже различались понятия умысла, пособничества, покушения, отягчающих и смягчающих вину обстоятельств и другие, существование и развитие которых возможно было в классовом обществе.
Индивидуализация ответственности, ослабление кровнородственной солидарности, возникновение норм и институтов, направленных на защиту частной собственности, замена кровной мести компенсациями — все это результат имущественной и классовой дифференциации в обществе.
Правовые памятники XVI—XVII вв. содержат немало норм, касающихся ответственности за посягательство на частную собственность. Везде речь идет не только о простом возмещении ущерба. Виновный возмещал стоимость похищенного в двух- трехкратном размере и вносил штраф в пользу всего общества, что говорит о наказании вора от имени общества. Во всех памятниках имелись указания о безнаказанности убийства вора, застигнутого с поличным.
Во всех правовых памятниках рабы рассматривались как вещь и за убийство раба была установлена лишь материальная компенсация хозяину.
Памятники права свидетельствуют, что формы общественной жизни горцев XVI—XVII вв., несмотря на сохранение общинной собственности, определялись возросшей ролью частной собственности на землю и скот, имущественной и классовой дифференциацией в обществе.
И ТУРЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В XVI—XVII вв.
Исмаила I
В конце XV в. на территории Азербайджана возникло государство Сефевидов. В период его образования подавляющую часть населения составляли азербайджанцы. Экономической базой государства Сефевидов также служили области Азербайджана, поэтому не удивительно, что руководящую роль в политической жизни государства играл азербайджанский этнический элемент. Государственной религией был объявлен шиизм. Провозгласив себя в Тебризе шахом, Исмаил I подчинил своей власти значительную часть Ирана, завоевал Ирак и ряд других областей Передней Азии. Сефевидское государство стало граничить на западе с османской Турцией, на востоке с узбекским государством. «Шах Исмаил, — подчеркивал К. Маркс, — был завоевателем: за 14 лет своего царствования он завоевал 14 провинций»[2]. Однако свою завоевательную политику шах Исмаил начал с подчинения своей власти Ширвана. Летом 1509 г. шах, захватив Ширван, направился на Дербент и после длительного и ожесточенного сражения захватил его. Назначив правителем Дербента эмира Майсура и подчинив другие селения, входившие в Дербентское владение, шах Исмаил направился на Табасаран. Табасаранцы, поддерживаемые другими народами Дагестана, в течение полутора месяцев оказывали упорное сопротивление врагу, но под напором численно превосходящих сил противника отступили в горы. Захватив Табасаран, шах в отместку за убийство своего отца Джунейда бесчеловечно расправился с мирным населением. В 1510 г. шах вернулся в Тебриз, оставив в Дербенте свой военный гарнизон.
за Кавказ
Образование сефевидского государства и рост его могущества очень встревожили подчинение султанскую Турцию. Поэтому с момента его возникновения султанское правительство в целях захвата Кавказа объявило Сефевидов врагами мусульманской религии, начало жестоко преследовать шиитов и призвало суннитов к борьбе с ними. В 1514 г. огромная армия султана Селима I под флагом «защиты ислама» вступила в Азербайджан. На чалдыринской равнине близ Маху произошло кровопролитное сражение, в котором Сефевиды потерпели поражение. Сам шах Исмаил I был ранен и отступил в глубь страны.
Воспользовавшись поражением Сефевидов, дербентцы, табасаранцы и другие народы, подчиненные шаху, расправились со сторонниками Сефевидов и перестали вносить им подати. Вскоре, однако, оправившийся шах Исмаил «возвратился с новым войском и отвоевал Тавриз»[3], после чего Сефевиды, стремясь упрочить свое положение, предприняли ряд походов на Ширван и Восточную Грузию.
В 1519 г. шах, овладев Дербентом и расправившись с непокорными жителями города и близлежащих аулов, назначил там правителем своего зятя Мюзафар-султана.
После смерти Исмаила в 1524 г. на престол шаха вступил Тахмас I (1524—1576). При нем в государстве Сефевидов возобновились феодальные междоусобицы. Местные правители получали все большую самостоятельность. Учитывая сложившуюся обстановку, султанская Турция в 1533 г. объявила войну сефевидскому государству и захватила значительную часть территории Азербайджана. Дербентская городская знать, воспользовавшись военными успехами турок, отказалась подчиниться правителям шаха в Дербенте.
Однако, добившись укрепления своей власти, шах Тахмас сумел оттеснить турецкие войска с захваченной территории и послал в Дербент огромную армию, которая жестоко расправилась с населением.
В 40-х годах XVI в. шах Тахмас подчинил своей власти Ширван и Грузию. Ликвидация остатков самостоятельности вызвала недовольство феодальных кругов Ширвана. Назначенный первым беглербегом Алкас-мирза, используя настроение господствующих сословий Ширвана в 1547 г., восстал против Сефевидов. В одном из сражений с Сефевидами Алкас-мирза потерпел поражение и вынужден был отступить в лезгинское селение Хиналук. Преследуемый Сефевидами, Алкас-мирза переправился через Самур и укрылся сначала у крым-шаха, а затем бежал в Турцию. Беглербегом Ширвана был назначен Иомаил-мирза, но вскоре его сменил Абдулла- хан. При нем в I Нирване несколько раз возобновлялась борьба против Сефевидов.
В 1548 г. борьбу возглавил один из потомков ширваншахов Бурхан-мирза, которого поддержал кайтагский уцмий Халил-бек. Бурхан-мирза освободил от шахских ставленников Кубу и сосредоточил там свои военные отряды, пополняя их населением кубинских аулов. Обеспокоенный размахом антииранского движения, шах направляет из Ширвана на Кубу военные отряды. В битве при Кульгане повстанцы одержали победу. Шах снова посылает на Кубу многочисленное войско. Под натиском численно превосходящих сил противника отряды горцев Дагестана вынуждены были отступить в горы.
В 1549 г., воспользовавшись выступлением турецких войск, Бурхан-мирза с отрядами кайтагцев напал на Ширван и овладел им. Расправившись с наместниками шаха, кайтагское войско вернулось обратно. Вскоре, однако, Сефевиды подчинили Ширван своей власти.
Между тем начиная с 30-х годов XVI в. борьба Сефевидов с Турцией продолжалась, а в 50-х годах начинается целая полоса турецких вторжений в Дагестан и Азербайджан. В 1554 г. войска османов под командованием Сенен-паши вторглись в Восточную Армению и Азербайджан. Одновременно по приказу султана через Северный Кавказ были направлены войска крымского хана, а кумыкским владетелям и уц- м.ию Кайтага султан повелел оказать помощь Касим-мирзе — потомку ширваншахов, перешедших на сторону Турции, которому Ширван был передан султаном в икта.
Призывы султана нашли отклик в Дагестане. Некоторые владетели Дагестана еще не понимали в то время далеко идущих захватнических планов Турции, прикрывавшейся лозунгом борьбы с шиизмом.
Не встретив особого сопротивления в Дагестане, турецко- крымское войско овладело Дербентом и оттуда начало свое наступление на Сефевидов, подвергая жесточайшему разорению и истреблению мирное население, принявшее шиизм. Однако этот поход турок закончился неудачей. В битве у Кале-у-Букода турецкие войска были разбиты. Одновременно беглербег Ширвана Абдулла-хан близ крепости Полистан разгромил отряды Касим-мирзы, который поспешно бежал в Табасаран. Не получив поддержки у табасаранского майсума, Касим-мирза сложил с себя полномочия предводителя суннитских янычарских отрядов.
Борьба между Турцией и Сефевидами продолжалась до 1555 т., вплоть до заключения мирного договора, по условиям которого Западная Грузия и Западная Армения отходили к Турции, а восточные части Армении и Грузии — к сефевидской державе.
Тем временем в Иране шли междоусобные войны, разорявшие и ослаблявшие страну. В 1578 г., воспользовавшись ослаблением Сефевидов, османская Турция вновь начала наступление на Кавказ. С огромной армией двинулся на Кавказ Мустафа-Леле-паша. Одновременно Султан-Мурад дал указание крымскому хану Магомед-Гирею отправиться в Ширван через Северный Кавказ. Проход войск крымского хана облегчался тем, что, занятый ливонской войной, Иван Грозный вынужден был оставить крепость Терки. Пройдя через Северный Кавказ, турецкие войска захватили Дербент. Обосновавшийся в Дербенте правитель Ширвана Осман-паша вместе с крымским войском стал предпринимать походы в глубь Дагестана. В итоге османы принудили жителей Дер-
бента и близлежащих лезгинских сел содержать турецкие войска. В 1579 г. войска крымского хана Магомед-Гирея совершили еще один поход в Дагестан и, соединившись с силами Осман-паши в Дербенте, двинулись в Азербайджан.
Народы Дагестана не раз поднимались с оружием в руках против турецких завоевателей. В 1582 г. против османов выступили жители Казикумуха, поддерживаемые хунзахцами и согратлинцами. Янычары жестоко расправились с жителями Кумуха, Хунзаха и Согратля. Против турок выступили и жители сел. Кафыркумух. Получив известие о том, что крымские войска разбиты в одном из сражений в Азербайджане и глава армии Адиль-Гирей взят в плен и убит персами, кафыркумухцы напали на людей крымского хана Магомед-Гирея.
В 1582 г. по приказу Султан-Мурада в Дагестан были направлены из Крыма .войска под командованием Джафар-ха- на, жестоко расправившиеся с жителями Кафыркумуха и других кумыкских селений.
В 1585 г. Джафар-хан предпринял поход в Южный Дагестан и, несмотря на упорное сопротивление, захватил ряд аулов и разорил Кюру.
Итак, мы видим, что в 80-е годы XVI в. территория Южного Дагестана стала объектом ожесточенных кровавых столкновений крымско-турецких и сефевидских войск. Эти войны приводили к разорению мирного населения Дагестана. Город Дербент при турках был совершенно опустошен.
Борьба между Ираном и Турцией за захват Кавказа завершилась в 1590 г. заключением договора, унизительного для шаха Аббаса, по которому почти вся Армения, Грузия и Азербайджан подпали под иго Турции. Дагестан также отходил к Турции. Однако горцы Дагестана не признавали себя подданными султана. Кюринцы и табасаранцы совместно с кубинцами, собравшись в местности Пиласа, около сел. Агбал, с оружием в руках выступили против турок. Для усмирения дагестанцев в Кубу прибыл ширванский губернатор Турции Ахмед-паша с огромной армией. После ожесточенной борьбы малочисленные отряды горцев потерпели поражение. Ахмед- паша, опустошив Кубу, построил крепость в сел. Кусары и оставил там большой гарнизон.
Освободительная борьба народов Дагестана
против иранских и турецких захватчиков
В начале XVIIв. шах Аббас I, восстановив и укрепив центральную власть и реорганизовав с помощью английских военных инструкторов армию, снова начал военные действия против турок, за захват Кавказа. В течение 1603—1607 гг. после ряда побед над турками шахские войска овладели Арменией, значительной частью Азербайджана и Грузии. С этим совпало и выступление народных масс в Грузии, Азербайджане и Дагестане против турецких агрессоров. Так, в 1606 г. восстали горожане Дербента.
Турки, опасаясь народного гнева, укрылись в цитадели Нарынкала. Тогда восставшие стали расправляться со сторонниками Турции из среды представителей дербентской знати. Напуганные размахом выступления, городская знать и шиитское духовенство обратились к кайтагскому уцмию с просьбой занять город. Рустем-хан прибыл со своими отрядами в город и окружил Нарынкалу. К этому же времени подоспело подкрепление из Шемахи. Не желая кровопролития, Рустем- хан предложил Гезер-Гасану сдаться без боя. Получив отказ, отряды Рустем-хана подорвали стены крепо-сти и начали штурм ее. Видя свое безвыходное положение, Гезер-Гасан вынужден был сдаться.
Ирано-турецкие войны первой половины XVI в. Освободительная борьба народов Дагестана против иранских и турецких захватчиков
Шах Аббас I в ходе наступательных операций против Турции всячески старался привлечь дагестанских владетелей ия свою сторону. Для этого он поощрял дагестанских правителей пожалованиями из казны и дарственными грамотами. Так, после разгрома турецких войск в Дербенте шах Аббас «во воздаяние за эту добрую службу» одарил сына Хаджи-Мухаммеда Дербенди и уцмия Кайтага подарками и пожаловал им союргал, т. е. предоставил право взимать в свою пользу налоги, которые поступали с подвластной территории в шахскую казну. Кроме того, уцмий получил грамоту «а управление Дербентом. Различного рода подарки были отправлены казикумухскому шамхалу, аварскому хану, майсуму Табасарана, акушинскому кадию и Алибеку Цахурскому.
Задаривая феодальных владетелей Дагестана, шах Аббас вместе с тем вовсе не собирался проводить политику невмешательства в дела Дагестана. Поэтому, не надеясь на прочность дагестанского тыла и в целях полного подчинения его народов, шах Аббас начал укреплять дербентскую крепость и проводить укрепленную линию по границам расселения дагестанских народов. С той же целью здесь было размещено большое количество переселенцев, которые должны были нести военно-пограничную службу и подавлять вооруженные выступления народов Дагестана.
В 1609 г. ставленник шаха в Шемахе Зульфукар-хан решил построить крепость на Шебране. Майсум-хан, поддерживаемый табасаранцами, задумал сорвать план строительства крепости и, явившись с войском, потребовал приостановить работы. Произошло столкновение, в котором погибло много табасаранцев. Это событие раскрыло горцам глаза на подлинную сущность политики шаха. Опасаясь потерять свою самостоятельность, народы’ Дагестана начали вооружаться и концентрировать свои военные силы. Обеспокоенный брожением среди народных масс Дагестана, шах Аббас послал главнокомандующего армией Карычай-хана к Шебрану, поручив ему на месте расследовать причину столкновения. Карычай расправился с Зульфукар-ханом и послал к владетелям Дагестана шахские прошения. Учитывая сложившуюся обстановку на Кавказе, шах Аббас дал указание своим ставленникам в Шир- ване постоянно «наблюдать за горцами, входить с ними в сношения, поддерживая спокойных и преданных и наказывая виновных» ради сохранения спокойствия.
В 1615 г. шах Абас окончательно решил подчинить своей сласти Кахетию и направил туда огромную армию. В результате этого Кахетия потеряла две трети населения: около 100 тыс. человек было убито, столько же оказалось в плену.
Предпринимая поход в Грузию, шах Аббас потребовал, чтобы владетели Дагестана выступили совместно с ним. Кумыкский владетель Гирей готов был оказать помощь, но «кумыкские люди ево, Гирея, не послушали и к шаху Аббасу на помощь воевати грузинские земли не пошли».
Разгневанный шах начал подтягивать свои войска в Дербент для вторжения в Дагестан. При этом он хвастливо заявил, что «ту де сторону очистил до Черного моря, а сю я сторону очищу и до Крыма». Однако угрозы шаха не оказали желаемого воздействия. Кумыки решили: «им Басу не бивати челом и ему не служивати. А как де на них пойдет, им де всем против его стояти головами своими, а в землю его не пустити».
В этих условиях феодальные правители Дагестана — кумухский Алибек, кайтагский уцмий, андийский шамхал, андреевский Султан-Мут и другие решили прекратить междоусобицы и не искать поддержки друг против друга «ни у шахов Ирана, ни у султанов Турции, ни у крымского хана».
Однако в силу внутренних и внешних обстоятельств владетели Дагестана были вынуждены часто менять внешнеполитическую ориентацию или присягать на подданство одновременно двум государствам. Так поступили в период вторжения шаха Аббаса на Кавказ владетели кумыкские Ильдар и Гирей. Но подобного рода действия не находили поддержки среди народных масс.
В ирано-турецких войнах 1616—1639 гг., возобновившихся после заключения Стамбульского договора 1612 г., Дагестан по-прежнему служил одним из объектов захватнических планов шахов и султанов. В этих условиях народы Дагестана и их правители стали обращаться к русскому централизованному государству с просьбой помощи и покровительства. Ориентация на Россию особенно усиливается в 20-х годах XVII в. в связи с разрушением шахскими войсками в 1620 г. ряда южнодагестанских аулов, в частности Ахтов, восстановленных только через восемь лет. Россия принимала всевозможные в тогдашних международных условиях меры к оказанию помощи и покровительства народам Дагестана. Русское подданство служило серьезным препятствием шахской и турецкой агрессии в Дагестане.
После смерти Аббаса I в 1628 г. шах Сефи (1628—1642] и особенно Аббас II постоянно вмешивались во внутренние дела Дагестана. Аббас II в целях укрепления своих позиций в Дагестане начал проводить политику насаждения в Дагестане проирански настроенной феодальной верхушки. Так, в 1641 г. после смерти шамхала Айдемира, когда между кумыкскими князьями разгорелась междоусобная борьба за титул шамхала, Аббас II решительно поддержал своего сторонника Сурхая Тарковского, выдал ему грамоту в его утверждении шамхалом и оказал военную помощь против эндреевского князя.
В 1645 г., воспользовавшись междоусобной борьбой янгикентских и маджалисских ветвей рода уцмиев, шах Аббас выдвинул на престол уцмия Амирхан-Султана, который примкнул к шахским войскам, прибывшим в Кайтаг. Однако Рустем- хан нанес поражение персидским войскам. Разгневанный хан вынужден был уйти в горы. На место смещенного Рустем-хана уцмием был поставлен Амирхан-Султан. Все это оказало известное влияние и на других владетелей Дагестана. Шаху Ирана удалось на время распространить свое влияние на Табасаран и Тарковское шамхальство. Этим и объясняется участие ряда владетелей Дагестана в нападении шахских войск на Сунжу в 1652—1653 гг. Аварский и казикумухский владетели еще не признавали полной зависимости от шаха, хотя и получили шахские жалованные грамоты.
Недовольные захватнической политикой иранских шахов, народные массы неоднократно поднимались на вооруженную борьбу. В 1659—1660 гг. в Дагестане вспыхнуло антииранское восстание. Началом восстания послужило выступление сына Рустем-хана Кайтагского Амирхан-Султана Хасан-хана, претендовавшего при поддержке шаха на престол уцмийства. Учитывая недовольство народных масс Кайтага и всего Дагестана политикой шаха, Уллубий заставил Хасан-хана и его сторонников покинуть Калакорейш. Недовольный смещением своего ставленника, шах двинул на Кайтаг прекрасно вооруженную 15-тысячную армию под командованием Хаджи-Манучерхана. Одновременно начальнику артиллерийского корпуса в Ширване Али-Кули-беку был послан приказ выступить к границам Дагестана. Были также посланы указы к правителям Ширвана, Дербента, Цахура, Табасарана и тарковскому Сурхай-шамхалу примкнуть к Хаджи-Манучерхану. Весть о походе персидских войск вызвала повсеместное вооруженное сопротивление. Первым шахским войскам пришлось встретиться с кюринцами. Но разбросанные малочисленные отряды лезгин, не выдержав натиска шахской армии,, вынуждены; были сдаться. Захватив и разграбив землю кюринских лезгин, армия шаха начала наступление на Кайтаг.
Сурхай-шамхал, учитывая настроение народных масс и не желая участвовать в этом походе, уговаривал Хаджи-Манучерхана отказаться от нападения на Кайтаг, ссылаясь на то, что Уллубий не прочь раскаяться «в своих действиях» иготов «изъявить покорность и смирение». Вместе с тем Сурхай-шамхал заявил, что «приказ шаха для него не является приказом» и дагестанцев невозможно привести в повиновение даже в том случае, если воздвигнуть крепости, как в Кахетии. Не дождавшись ответа Хаджи-Манучерхана, Сурхай- шамхал срочно выступил с войсками в Кайтаг на помощь Уллубию. Весной 1660 г. недалеко от р. Багам произошла крупная битва, продолжавшаяся в течение нескольких дней. Народно-регулярные отряды кайтагцев и шамхальства мужественно сражались, геройски погибая в неравной борьбе. Однако из-за отсутствия единого руководства и плана правильной расстановкой военных сил. упорное сопротивление восставших было сломлено. К тому же на помощь к восставшим не подоспели отряды аварцев, лакцев и даргинцев. Истребив всех попавших в плен, персы жестоко расправились с населением Кайтага, превратив в руины кайтагские аулы.
Однако шахская армия не решалась проникнуть в горы, узнав о подготовке повсеместного вооруженного восстания горцев Дагестана. Ограничившись тем, что феодальные правители Кайтага, шамхальства и Кюры изъявили покорность и послали своих представителей ко двору шаха с прошениями, главнокомандующий персидской армии Хаджи-Манучерхан отступил в Дербент.
Убедившись в том, что ему не под силу покорить Дагестан с оружием в руках, Аббас II вынужден был снова стать на позиции систематического разжигания и поддерживания феодальных междоусобиц в Дагестане. Политика шаха Сулеймана (1667—1694) не отличалась от политики Аббаса II. В 80-е годы XVII в. шах Сулейман выдвинул одного из отпрысков маджалисской ветви рода уцмиев, Гусейн-хана, бывшего до совершеннолетия при дворе шаха, правителем Кубы. В 1689 г. он, заручившись поддержкой шахских наместников в Дербенте, совершил поход в Кайтаг и овладел резиденцией уцмия Еашлы. Только благодаря поддержке горских народов кайтагскому уцмию Али-Султану удалось вытеснить его из Кайтага. Таким образом, ирано-турецким захватчикам так и не удалось покорить и подчинить своей власти народы Дагестана. Однако долголетняя борьба Ирана и Турции за овладение Кавказом и связанные с этим неоднократные опустошительные нашествия полчищ шаха и султана приносили народам Дагестана, как и всем народам Закавказья, неисчислимые бедствия и страдания и крайне отрицательно сказывались на положении широких народных масс.
В XVI—XVII вв. народы Дагестана по-прежнему поддерживали и развивали исконно сложившиеся торгово- экономические, политические и культурные связи с народами Кавказа.
В XVI—XVII вв. дагестано-грузинские отношения развивались в чрезвычайно сложной обстановке при усиливающейся политической и экономической экспансии султанской Турции, шахского Ирана и царской России, в условиях, когда феодальные владетели Дагестана и Грузии часто вынуждены были менять внешнеполитическую ориентацию. Все это оказывало известное влияние на дагестано-грузинские отношения и нередко приводило к конфликтам. К военным столкновениям феодалов толкало и стремление к обогащению и укреплению своих позиций, а также желание захватить и подчинить своей власти территорию соседей.
В набегах на Грузию владетели Дагестана видели наиболее легкий путь наживы. Феодалы захватывали при этом имущество и скот, уводили пленных, которых затем продавали или обращали в рабство. В результате феодальных набегов ка Грузию уничтожались посевы, сады, разоренными оказывались целые деревни. Народ не одобрял варварских действий феодальных владетелей. Не случайно среди народных масс Дагестана широкое распространение получили притчи, пословицы, поговорки, резко осуждающие феодальные набеги: «Не известно, вернется ли ушедший в набег на Грузию», «Добыча от набегов и уносится набегом» и др.
Но было бы совершенно неправильно заключить, как это делали дворянско-буржуазные историки, что грузино-дагестанские отношения рассматриваемого периода сводились к бесконечным военным столкновениям.
Феодальная Грузия была заинтересована в мирных связях с Дагестаном, в развитии торговли, скотоводства, в охране границ и перевальных дорог и т. д. Поэтому правители Грузии старались поддерживать с владетелями Дагестана мирные отношения. В свою очередь ряд феодальных владетелей Дагестана также во многих отношениях были заинтересованы в установлении и укреплении союзнических отношений с владетелями Кахетинского царства.
Для укрепления союза и дружбы владетели Дагестана и Грузии заключали династические браки. Кахетинский царь Леван обвенчался с дочерью шамхала. Династические связи с. дагестанскими правителями продолжали поддерживать и потомки Левана; дочери шамхала были замужем за сыновьями царя Александра. Определенную роль в развитии дагестано-грузинских отношений играло и то, что кахетинскими царями привлекались военные дружины из горцев Дагестана. Укреплению дагестано-грузинских связей содействовало также принятие Грузии и Дагестана в подданство России.
Касаясь дагестано-грузинских отношений, послы Кахетии в Москве в 1591 — 1592 гг. отмечали, что царь Грузии в «любви и дружбе» с крым-шамхалом и что «кумыцкая земля половина с ним». Взаимоотношения между царями Грузии и владетелями Дагестана оставались дружественными и в начале XVII в., о чем красноречиво свидетельствует сообщение послов царя Александра в Москву: «Да с нами же нынеча лезгинские и шевкальские люди, те, что с нами быти им в миру, а на лихово смотрят за один с нами; на том договор у нас».
Дагестан поддерживал с Грузией торгово-экономические связи. Основными предметами торговли между народами Дагестана и Грузии были шелковые ткани, бурки, паласы, сукна, шкуры, оружие.
Купцы из Грузии приезжали в торгово-ремесленные центры Дагестана — Дербент, Тарки,Эндрей и др. В свою очередь горцы Дагестана по торговым делам бывали в Телавах, Греми, Базари и других торговых центрах Восточной Грузии. Кроме того, торговые сделки между купцами Грузии и Дагестана осуществлялись в троговых центрах Северного Кавказа и Азербайджана, особенно в Шемахе. Торгово-экономические связи народов Дагестана и Грузии стимулировали дальнейший рост производительных сил этих стран.
На основе торгово-экономических взаимоотношений развивались и дагестано-грузинские культурные связи. В результате тесного общения населения в языки андо-дидойской группы вошли слова из грузинского языка. В свою очередь из аварского в грузинский вошел ряд слов, относящихся к предметам быта и культурного обихода. Много общего и в орнаментальном искусстве, особенно в резьбе по камню и дереву и т. д. * ^
Грузинское влияние особенно заметно в архитектуре бежти’Щев. В отличие от остальных аварских «поселений планировка в бежтинских аулах имеет много схожего с планировкой восточногрузинских сел.
Дагестано-азербайджанские связи в XVI—XVII вв. развивались в обстановке борьбы между Ираном и Турцией за овладение Кавказом, в условиях, когда народы Дагестана и Азербайджана вели упорную борьбу с иноземными захватчиками.
Народы Азербайджана и Дагестана оказывали друг другу посильную помощь в этой борьбе. Так, в борьбе за восстановление самостоятельности Ширвана на стороне потомков ширваншахов принимали участие и дагестанцы.
Известно также совместное выступление народов Южного Дагестана и Северо-Восточного Азербайджана против турецких войск.
В 1601 —1602 гг. в союзе с табасаранцами и кюринцами выступили кубинцы. В свою очередь горцы Дагестана принимали участие в антитурецких выступлениях в Ширване в 1602—1603 гг. А когда против турок восстали горожане Дербента, их поддержали ширванцы и отряды уцмия Кайтага, с помощью которых был разбит турецкий гарнизон.
Освободительные вооруженные выступления народов Азербайджана, Армении и Грузии против иноземных завоевателей также объективно способствовали народам Дагестана в их борьбе за независимость. Известно, что в период нашествия на Кавказ Аббаса I выступления народов Закавказья отвлекли силы шахских войск и не дали ему осуществить намеченные планы вторжения в Дагестан и Северный Кавказ. Прокатившаяся в 70-х годах XVII в. новая волна крестьянских восстаний в Закавказье обессилила войска Ирана и тем самым объективно способствовала борьбе народов Дагестана против шаха Аббаса II.
Сказанное не означает, однако, что взаимоотношения между правителями Дагестана и Азербайджана в XVI—XVII вв. всегда оставались мирными.
В силу внутренних противоречий и постоянных происков Ирана и Турции с их традиционной политикой натравливания правителей Азербайджана и Дагестана друг на друга взаимоотношения между ними обострялись, что нередко приводило к военным столкновениям.
Неоднократно возобновляемая борьба между Ираном и Турцией за овладение Кавказом, а также феодальные междоусобицы сказывались и-на развитии торгово-экономических взаимоотношений Дагестана и Азербайджана.
Но, несмотря на все это, между Дагестаном и Азербайджаном, особенно между народами Северо-Восточного Азербайджана и Юго-Западного и Южного Дагестана, поддерживались постоянные торгово-экономические связи.
Эти связи осуществлялись, как и ранее, по главному пути Гидатль—Чох — Кумух — Чирах — Самурская долина и далее по перевалам через территорию Джаро-Белоканских обществ в Ширван.
Наиболее оживленным был путь Ахты — Шеки через Салаватский перевал, действовавший круглый год.
Горцы Дагестана вывозили в Азербайджан главным образом продукты животноводства и ремесленные изделия. В обмен же они приобретали зерно, пряности, соль, шелк, парчу, атлас, драгоценные камни Востока, нефть и всевозможные ремесленные изделия. В свою очередь торговые люди Азербайджана со всевозможными товарами собственного производства и товарами восточных стран также часто посещали Дагестан.
Торговые сделки между народами Азербайджана и Дагестана совершались в торгово-ремесленных центрах, из которых наиболее важную роль играли Шемаха и Дербент.
Большое значение в развитии азербайджано-дагестанской торговли имело и то обстоятельство, что торговый путь, по которому велась торговля Азербайджана с Россией, проходил через территорию приморского Дагестана — Дербент — Бойнак — Тарки — Эндрей — Кизляр.
Кроме того, жители Самурской долины, как и прежде, перегоняли свой скот на зимние пастбища Азербайджана. Пограничные же с южными районами Дагестана общества Азербайджана использовали их горные пастбища.
Немалое число горцев уходило в Азербайджан на заработки. В то же время азербайджанцы участвовали, например, в строительстве культовых зданий и других сооружений Дагестана.
Близкое соседство, хозяйственная взаимозависимость и тесное общение предопределяли возникновение дружественных связей между народами Дагестана и Азербайджана, взаимовлияния материальной и духовной культуры.
В XVI—XVII вв. в Южном Дагестане заметное распространение получает азербайджанский язык.
Известное влияние оказал Азербайджан и на общественный и семейный уклад, музыку, танцы и фольклор Южного Дагестана. Лезгинские, табасаранские певцы-импровизаторы слагали песни на сюжеты, заимствованные у ашугов Азербайджана, и пользовались их формой стихосложения.
Северного Кавказа
В XVI—XVII вв. народы Дагестана поддерживали тесные экономические, политические и культурные связи и с народами Северного Кавказа. Между Дагестаном, Чечено-Ингушетией и Кабардино-Балкарией не существовало резко очерченных границ.
Народы Дагестана и Чечено-Ингушетии жили не только чересполосно, но и нередко проживали в одних и тех же поселениях. Образование таких поселений шло в основном за счет притока трудовых слоев народа, бежавших от про- .извола и угнетения своих феодалов, скрывавшихся от кровной мести.
Совместными поселениями, где жили и трудились горцы Дагестана, чеченцы, ингуши, кабардинцы, в Дагестане были Баташ-юрт, Байрам-аул, Эндрей, Аксай и др. Здесь проживали выходцы из кабардинских фамилий Анзоровых, Баташе- вых, Тутушевых, Камбулатовых, Тамбиевых, Кабардиевых, Астемировых, Чегемовых, Черкесовых. В свою очередь дагестанские горцы проживали на территории Чечено-Ингушетии в сел. Брагуны и других, в кабардинском селении Турлове и во владениях кабардинского князя Каспулата Муцаловича на правом берегу Терека, а также в слободах вблизи русских городов-крепостей и в казачьих станицах. В Кабарде, в частности, проживали выходцы из Дагестана Шамхаловы, Кумы- ковы, Казанищевы, Иразовы, Исхаковы, Хаджиевы и многие другие. В пограничных районах Аварии и Чечни проживали тухумы Чунгурулал и Блитал, имевшие общие корни происхождения среди аварцев и чеченцев. Все это предопределяло установление добрососедских отношений, укрепление куначества и своеобразного института кавказского побратимства, а ‘также возникновение родственных отношений между населением Дагестана, Кабарды, Чечено-Ингушетии и других народов Северного Кавказа.
Тесные связи чеченцев, ингушей, кабардинцев и народов Дагестана имели и экономическую основу. Жители нагорной: части Чечено-Ингушетии, нуждавшиеся в зимних пастбищах и сенокосах, спускались на плоскость и пользовались землями жителей равнины. Аварцы и чеченцы отдавали на выпас друг другу скот, пользовались одними и теми же пастбищными участками. Народные массы Дагестана и Северного Кавказа вместе трудились на пашнях, заготавливали сено, занимались рыбной ловлей в протоках Терека и на Каспийском море. Горцы и жители плоскостных районов, общаясь, перенимали друг у друга трудовые навыки ведения хозяйства, обменивались продуктами сельского хозяйства и ремесла.
Обмен между Дагестаном, Кабардино-Балкарией и Чечено- Ингушетией осуществлялся через Сунженский перевоз. Кроме того, с Северным Кавказом, через Чечню, был связан Центральный и Южный Дагестан. Торговля народов Дагестана и Северного Кавказа осуществлялась в оживленных торговых центрах — Эндрей, Тарки, Татартуп и Терский город. Эндрей и Татартуп являлись и крупными невольничьими рынками, где концентрировалась работорговля почти всего Северного Кавказа. Каждый год в начале весны северокавказские народы собирались также недалеко от Татартупа, на границе Ка- барды, где в течение нескольких дней занимались обменом продуктами и предметами ремесла.
В результате обмена из Дагестана на Северный Кавказ поступали соль, металлическая и медная посуда, ювелирные изделия, продукты скотоводства и земледелия. Через Дагестан на Северный Кавказ шли также восточные товары: всевозможные шелковые ткани, сафьян, пряности и т. д. В свою очередь в Дагестан с Северного Кавказа шли продукты земледелия и скотоводства.
Торговля народов Дагестана с Северным Кавказом по- прежнему оставалась меновой. Ее развитию мешало господствовавшее у горцев Северного Кавказа и Дагестана натуральное хозяйство. Преградой на пути дальнейшего развития торговли между северокавказскими народами служила также феодальная раздробленность.
Несколько иной характер носили взаимоотношения феодальных владетелей Дагестана и Северного Кавказа. Правители Дагестана постоянно стремились к расширению границ своих владений. Особенно они старались распространить свое влияние на соседей — чеченцев и ингушей. В XVI в. кумыкские владетели подчинили своей власти ауховских чеченцев. В зависимости от кумыкских владетелей находились и некоторые ингушские общества. А в начале XVII в. аварские ханы принудили к дани пограничные чеченские общества.
Такая политика владетелей Дагестана встречала сильное противодействие со стороны кабардинских феодалов, которые в свою очередь также стремились к расширению границ, подвластных им территорий. Владетели Дагестана и Кабарды были основными соперниками, боровшимися за главенство на Северном Кавказе. И это нередко приводило к вооруженным столкновениям. В борьбе друг с другом владетели Дагестана и Кабарды привлекали на свою сторону соседних владетелей, а также обращались за помощью к России, Турции или Ирану.
В 1566 г. шамхал Будай, воспользовавшись феодальными распрями в Кабарде между старшим князем Темрюком Идаровым и Пшеапшокой Кайтукиным, принял сторону последнего и выступил с отрядом в Кабарду. Но в происшедшей битве отряд шамхала был разбит, а сам Будай погиб. Этим воспользовался Темрюк Идаров, который предпринял несколько ответных походов в Дагестан.
Междоусобная борьба продолжалась и в последующие годы. В 80-х годах XVI в. кабардинские князья со своими отрядами приняли непосредственное участие в распрях, начавшихся в шамхальстве после смерти шамхала Чопана. Вмешивались в междоусобицы кабардинских князей и владетели Дагестана, особенно эндреевские владетели. Так, долгое время враждовавший с князьями Малой Кабарды Тотлостановыми князь Алегука нашел убежище и покровительство в сел. Эндрей. Отсюда, поддерживаемый эндреевскими владетелями, он совершал частые нападения на Малую Кабарду.
Одно из самых крупных вооруженных столкновений феодальных владетелей Дагестана и Кабарды произошло в июле 1641 г. В этой схватке, с одной стороны, участвовали кабардинские владетели Алегука и Ходокжука и примкнувшие к ним некоторые владетели Малого Ногая, а с другой — сторонники Москвы во главе с кабардинским владетелем Кельмаме- юм Куденетовичем Черкасским и шамхалом Айдемиром, которых поддерживали отряды терских стрельцов и часть ногайцев. В битве при р. Малке Кельмамет и шамхал Айдемир потерпели поражение.
Многочисленные военные столкновения, однако, не являлись доминирующими во взаимоотношениях феодалов Дагестана и Северного Кавказа. В основном между ними поддерживались мирные отношения.
Между феодалами Дагестана и Кабарды часто заключались династические браки. В родстве с кабардинским родом Анзоровых состоял шамхал Чопан. Сын Чопана, эндреевский владетель Султан-Мут, женил своего сына Айдемира на сестре кабардинского князя Мудара Алкасова. Согласно кабардинским преданиям, на дочерях кумыкских владетелей были женаты Каншов-бий, Дохшуко Бгуншоков и другие кабардинские владетели.
В это время большое значение приобретают мирные связи двух влиятельных феодалов на Северном Кавказе — Тарковского владетеля Гирея и кабардинского князя Сунчалея Янглычева, служившего на Тереке. Еще больше союзнические отношения укрепились при преемниках Сунчалея Муцале и Каспулате Муцаловиче. Их взаимоотношения с владетелями Дагестана в значительной степени повлияли на нормализацию дагестано-кабардинских отношений.
Владетели Дагестана часто приглашались в Кабарду в качестве посредников для разрешения различных споров, возникавших между владетелями, для урегулирования пограничных споров между обществами Балкарии и феодалами Ка- барды, а также для решения вопросов, связанных с внешнеполитической обстановкой.
Дружба между Дагестаном и народами Северного Кавказа крепла и в совместной борьбе с иноземными захватчиками. Так, во второй половине XVII в. владетели Дагестана не раз совместно с кабардинскими отрядами выходили против турецко-крымских захватчиков.
На основе все укреплявшихся торгово-экономических и политических связей усиливалось взаимовлияние культуры народов Дагестана и Северного Кавказа. Вот почему в материальной и духовной культуре этих народов много общего. Особенно четко прослеживается эта общность в предметах хозяйственного и домашнего обихода, в одежде, пище, декоративном искусстве, в празднествах, в семейном и общественном быту.
Много однотипных сюжетов в устном народном творчестве: в сказках, пословицах и поговорках народов Дагестана и Северного Кавказа. Заметное влияние творчества народов Дагестана, и в частности прикладного искусства, испытало на себе также искусство северокавказских народов.
на Северном Кавказе и укрепление
дагестано-русских связей в XVI в.
Образование Русского централизованного государства имело огромное значение не только в истории самого русского народа, но и в истории всех народов нашей страны. С формированием централизованного государства Россия заняла одно из видных мест в международной жизни Европы. С этого времени активизируется ее внешняя политика, одной из важнейших задач которой была борьба за выход к морям. Как известно, тяжелая борьба за выход к Балтийскому морю не увенчалась успехом. Более ощутимых результатов Россия добилась на Востоке, где в 1556 году вышла к Каспийскому морю. Выход России К Каспийскому морю расширил круг вопросов политических «отношений с Турцией и Ираном, которые вели ожесточенные войны за захват Кавказа. В то же время утверждение России в устьях Волги, по словам С. М. Соловьева, «открыло… целый мир мелких владений в Прикавказье; князья их ссорились друг с другом, терпели от крымцев и потому, как скоро увидели у себя в соседстве могущественное государство, бросились к нему с просьбами о союзе, свободной торговле в Астрахани, некоторые с предложениями подданства».
В начале 50-х годов XVI в. в Москву неоднократно обращались кабардинские князья. В 1557 г. произошло добровольное присоединение Кабарды к России. В эти годы прибыли из Дагестана послы, а в последующие годы «послы появлялись в Москве постоянно».
В 1557 г. к Ивану IV прибыли послы шамхала и тюменского князя и, как свидетельствуют источники, «дань же на себя кладут и на службы на государевы ходити хотят с государевыми воеводы вместе». В следующем, 1558 г. в Астрахань «была присылка о мире и торговле от владетелей из Шемахи, Шевкал и Тюмени» и воеводы Черемисинов и Ко- лупаев «по государеву наказу послали к ним служилых татары.
В этом же году через Астрахань из шамхальства и из тюменского ханства пришли в Москву послы с просьбой о подданстве («о холопстве») и об оберегании «со всех сторон».
В 1559 г. посольства от шамхала и тюменского князя, прибывшие в Москву, добивались, чтобы Русское государство защищало их от кабардинских князей. В то же время к Ивану IV обращался шамхал с просьбой, чтобы он прислал «рать «а крым-шевкала, а им дал иного, а они всею землею холо- пн государевы неотступны». Немного ранее в Москву с просьбой защищать их от шамхала обращались кабардинские князья. В создавшихся условиях Россия, исходя из экономических и политических целей, оказывала им помощь. Поддержка одного владетеля, естественно, отдаляла другого и нередко приводила к нежелательным результатам.
В 1560 г. по просьбе кабардинских князей из Астрахани •был отправлен воевода Черемисов в «шевкал… оборонять Черкасы». Русские войска «воевали шевкала», заняли Тарки. а затем вернулись в Астрахань. Однако после этого русско- дагестанские отношения приобрели мирный характер. Уже в 1562 г. шамхал через Астрахань свидетельствовал о «своей любви» к московскому царю.
В 1567 г. от шамхала прибыл его «имальдеш» с подарками. В 1568 г. шамхал послал своего внука в Москву служить государю, а сам бил челом Ивану Грозному, что «хочет быть в его воле». Ответное посольство из Москвы в шамхальство

поставило вопрос о постройке русского города на р. Овечьи Воды, и шамхал «дал» Овечьи Воды.
Постройка русских крепостей на Северном Кавказе была чревата для России тяжелыми последствиями и дипломатического и военного характера. Крым и Турция требовали снести крепость на Тереке и «отперти дорогу» в Закавказье. В 1569 г. турецко-крымские войска предприняли большой, но неудачный поход на Астрахань, чтобы открыть путь в «Кизыл- баши».
В 1578 г. турецко-персидская война возобновилась. С помощью татарских войск, прошедших в 1578 и 1579 гг. через северокавказские степи в Закавказье, турки овладели Азербайджаном и Дагестаном и вышли к Каспийскому морю. Эти завоевания были закреплены договором с шахом 1590 г.
В последнее десятилетие XVI в., в связи с выходом тур- ков к Каспийскому морю, снова усиливается ориентация местных сил на Россию, для которой выход Турции к Каспийскому морю создал непосредственную угрозу Астрахани и угрозу потери восточных рынков.
В 1578 г. по просьбе из Кабарды был возобновлен русский город на Сунже, и когда крымское войско возвращалось в Крым из Ширвана, оно было разбито при переправе через Терек русским отрядом, вышедшим из крепости.
В дальнейшем попытки турок и крымцев сноситься через Северный Кавказ и Дагестан с турецкими пашами, действовавшими в Азербайджане, кончались тем, что турецкие «чауши» и «капычеи» попадали в руки казаков, отводивших их в Астрахань или в Москву. Дорога на Дербент оставалась для турок отрезанной.
Последующие годы во внутренней истории Дагестана отмечены ожесточенной междоусобной борьбой между шамхалом и крым-шамхалом. Шамхал принял турецкую ориентацию; крым-шамхал, «сват» кахетинского царя Александра, как и этот последний, обратился к России; за крым-шамхала стояла «половина Кумыцкой земли», в том числе сын шамхала —тарковский владелец Сурхай. Русской ориентации придерживался также аварский правитель, через владения которого шел удобный перевальный путь в Кахетию.
В 1587″ г. кахетинский князь Александр принес присягу в русском подданстве, и по его настойчивым просьбам о военной помощи в 1588 г. был снова поставлен город на Тереке, в устье, на одном из его протоков у Тюмени.
Терский город очень скоро после основания стал не только сильной крепостью, но и крупным местным торговым пунктом со смешанным этническим населением. Через Терки шел путь из России в Дагестан и далее в Закавказье и Иран, Кабарду, Осетию и по Дарьяльскому ущелью в Грузию.
Вскоре после основания русской крепости под ее стенами разместились слободы народов Северного Кавказа — Черкесская (Кабардинская), Окоцкая (Ингушская), Татарская и Новокрещенская (со смешанным населением). В них и поселились горцы Дагестана.
В 90-х годах XVI в. и в начале XVII в. был предпринят ряд походов русских войск против шамхала, целью которых было прекратить его сношения с Крымом и Турцией, отрезать крымско-турецким силам путь в Закавказье и укрепить положение Кахетии. В этот же период велись переговоры русского правительства с шахами Худабендэ и Аббасом о военном союзе против султана и о присоединении к России Дербента, Баку и Шемахи. В связи с этим походы русских войск в Дагестан можно рассматривать как имеющие целью укрепление русского влияния в Дагестане и в Азербайджане.
Однако сношения русского правительства с Кахетией, крым-шамхалом и Аварией продолжались. По настойчивым просьбам кахетинского царя «посадить» в Тарках «государевых людей», чтобы обеспечить сообщение с Кахетией через Кумыцкую землю, в 1591 г. под командованием воеводы Засекина, а в 1593—1594 гг. под начальством князя Андрея Хворостинина были предприняты походы на шамхала. В результате похода Хворостинин поставил третью русскую крепость на р. Койсу, где был оставлен гарнизон в тысячу стрельцов. Таким образом, к середине 90-х годов была создана целая система русских крепостей на Каспийском море и на Тереке у устья Яика, у устья Волги — Астрахань, Терский город у’ устья Терека, Койсинский острог у устья Сулака и, наконец, Сунженский острог у перевоза через Сунжу на так называемой Османской дороге, т. е. на той самой дороге, которой в 1583 г. шел Осман-паша из Дербента в Крым. Через Терский, Сунженский и Койсинский города поддерживались постоянные сношения с Кабардой и Кахетией, принявшими русское подданство, с Аварией, шамхальством ,и «горскими землицами» Дагестана.
После похода 1594 г. была предпринята попытка договориться с шамхалом. Но эти переговоры не увенчались успехом. В 1598 г. к шамхалу приехал посол турецкого султана Аслан-бек, привез ему жалованье и вел переговоры о том, чтобы в устье Койсу вместо русского острога поставить турецкую крепость. Шамхал стал склоняться на сторону Турции.
Но позиция шамхала не находила поддержки ни у населения, ни у его же сыновей, удельных владельцев. Андий, кафыркумухский владелец, тарковский Сурхай и эндреевский Султан-Магомед прислали в 1602—1603 гг. в Москву послов с предложением подданства; послы были отпущены с жалованьем.
В 1604-1605 гг. Россией был предпринят новый большой поход в Дагестан под началом Бутурлина и Плещеева с весьма значительными силами. Вместе с русскими войсками в походе участвовали и войска кабардинского мурзы Сунчалея Янглычева и чечено-ингуши под начальством Батая Шихмурзина. Одновременно в Грузию были отправлены послы А. Татищев и А. Иванов. Они должны были известить Александра о походе на шамхала и договориться, чтобы царь Грузии со своей стороны направил войска в Дагестан.
Поход русских войск в Дагестан надо связывать не только с русско-грузинскими отношениями, но и с возобновлением шахом Аббасом войны с Турцией за Закавказье и стремлением русского правительства путем военных действий обеспечить успех переговоров об уступке Дербента, Баку и Шемахи. Русские войска, не встречая сопротивления, заняли Эндрей и Теплые Воды, заложили крепость на Тузлуке. Шамхал, «старец ветхий, лишенный зрения», бежал в горы. Русские войска заняли Тарки и сразу же приступили к строительству укрепления, назвав его Новым городом. Однако воеводы допустили ошибку: они «пленили людей в селениях, брали хлеб, отгоняли табуны и стада». Все это, как и следовало ожидать, вызвало недовольство народных масс. Шамхал, крым-шамхал и другие владетели объединились. Зорко следившая за событиями на Северном Кавказе султанская Турция сразу же решила использовать недовольство Дагестана в своих корыстных целях.
К Таркам пришел из Шемахи турецкий отряд. Бутурлин «учинил мир» с турецким пашой, чтобы русским войскам дали возможность вернуться на Терек. Однако это условие не было выполнено, и при отступление русские понесли большие потери — более 7 тыс. человек. Сунженский и Койсинский остроги были оставлены.
Несмотря на осложнения 1604—1605 гг., русско-кавказские связи второй половины XVI в. имели весьма важное значение и в военном и в политическом отношениях. Это был период наибольшего подъема агрессии турецкого военно-феодального государства. Но стратегические замыслы султанов, связанные с планами захвата Кавказа, оказались чрезвычайно осложненными вследствие возникшей на местах — в противовес крымско-турецкой агрессии— ориентации на сильное Русское государство и его помощь.
В начале XVII в., в годы интервенции и крестьянской войны в России, связи Северного Кавказа и Дагестана с Центральной Россией ослабли и на время прервались. Однако связи с Терским городом все более и более укреплялись. Только благодаря этим связям и поддержке народов Северного Кавказа сохранился Терский город. Более того, в начале XVII в. значение города еще более усилилось, а число нерусского населения значительно возросло. В течение XVII в. неуклонно росло и торговое значение Терского города. В нем были «русские ряды» и гостиные дворы, где торговали русские люди и тезики — восточные купцы из Дербента, Закавказья и Ирана. Из России привозили промышленные изделия (железные и деревянные изделия, кожи и кожаные изделия, льняные ткани и др.). Из Дагестана в Терский город привозили сельскохозяйственные продукты и изделия домашней промышленности. Привозили горцы и восточные товары: шелк, сафьян и т. п.
В начале XVII в., в период польско-шляхетской интервенции, когда прекратился подвоз в Терский город хлебных запасов из Руси по Волге и Каспийскому морю, терские стрель- пы и служилые люди покупали хлеб у кабардинских и у кумыцких людей в Тарках и Карабудахкенте, и у гилянских, и у дербентских тезиков, привозивших хлебные запасы для

продажи на Терек. Подвоз зерна и муки продолжался и позднее. Привозили также фрукты, орехи, марену; пригоняли скот и приводили на продажу лошадей, а также отгоняли их в Москву в так называемые «ордобазарные станицы».
В течение XVII в. торговые связи Дагестана с Россией приняли систематический характер. Обычно с каждым дагестанским послом в Москву приезжал «купчина» того или иного дагестанского феодала, привозивший восточные товары на крупные суммы и покупавший товары для отправки в Дагестан. В 1621, 1623 и 1627 гг. в Москву приезжал «купчина» Ильдара тарковского, который привез за эти годы товаров в общей стоимости на 8557 руб.; в 1642—1643 гг. посол шамхала Сурхая привез товаров на сумму 8100 руб. Привозили в Москву товары и «купчины» кайтагского уцмия. Купчин по челобитию обычно освобождали от уплаты таможенных пошлин.
Торговые связи с Астраханью были постоянными. Шамхалы добились освобождения от пошлин товаров на 600 руб. ежегодно, но присылали на значительно большие суммы. Так, в 1631 г. два человека шамхала Ильдара привезли в Астрахань товаров на 2133 руб., в 1641 г. человек тарковского мурзы— на 700 руб. Присылали караваны торговых людей и в Терский город. В привозе были преимущественно восточные товары, шедшие через Дагестан транзитом,— всевозможные шелковые и бумажные ткани из Азербайджана, Ирана и Средней Азии, шелк-сырец и шелк крашеный, сафьян, шелковые кушаки. К местным северокавказским товарам можно отнести попоны, овчины, бараньи шубы.
Из России в Дагестан привозили сукна, меха, кубки, котлы, по специальному разрешению предметы вооружения — пищали, сабли, панцири.
Однако торгово-экономические связи России и Дагестана отнюдь не всегда имели мирный характер. При провозе товаров по «Дагестанской дороге» на Дербент и обратно в Терский город и Астрахань надо было платить пошлины каждому феодалу, через владения которого проезжали купцы. Нередки были и грабежи торговых караванов.
Выше отмечалось, что в начале XVII в. возобновилась ирано-турецкая война за овладение Кавказом, которая завершилась в 1612 г. вытеснением Турции с Кавказа, после чего начался период активной агрессии шахов на Северном Кавказе. Действуя со стороны Дербента, шах стремился поставить в зависимость владетелей Дагестана, что, однако, встречало сильное сопротивление. В обстановке шахской агрессии среди разных слоев населения Дагестана росла ориентация на Россию, в покровительстве которой видели противовес персидской угрозе и военной помощью которой при близости Терского города к дагестанским владениям было важно заручиться в войнах с «недругами».
Еще в 1610 г., в самый разгар интервенции, шертовали перед терским воеводою на верность московскому царю Тарковские владельцы Гирей и Ильдар Сурхаевы и бывшие с ним «в одиначестве» семь князей и мурз и среди них казикумухский владелец Алибек, аварский Мехти, карабудахкентский Сурхай и др. В 1614 г. шерть была повторена, и тогда же от Гирея Тарковского с грамотой к царю поехал посол, вернувшийся с ответной царской грамотой и подарками. Посольством устанавливалась вассальная зависимость Тарковских земель от России.
В 1615 г., когда ожидался поход шахских войск на кабардинские и кумыкские владения, из Москвы к шаху Аббасу был послан специальный гонец Г. Шахматов с грамотой, где, в частности, писалось о том, чтобы шах на Кабардинскую и на Кумыцкую земли «не наступал», как на земли русских подданных.
За 28 лет, с 1614 по 1642 г., в Москве побывало 13 посольств от тарковских ханов и два от соседних с ними владетелей.
В Москве внимательно следили за отношениями дагестанских владельцев к шаху, но, избегая конфликтов с ним, резко вопроса о Дагестане не ставили. Однако в официальных сношениях с Дагестаном и Персией русские дипломаты всегда называли кумыков русскими подданными.
Одним из условий вассальной зависимости от русского правительства была взаимная помощь ратными людьми «на недругов». Часто целью посольств в Москву были просьбы о военной помощи против эндреевского Султан-Магомеда. Во многих случаях эти челобитные удовлетворялись, и терские ратные люди не раз ходили на Эндрей. Русское правительство поддержало хана Ильдара против Султан-Магомеда и в 1623 г., когда после смерти шамхала Андия возник спор о шамхальстве. Вопреки решению съезда 1621 г., постановившего утвердить шамхалом Султан-Магомеда, а Ильдара — крым-шамхалом, последний отправил в Москву посла с просьбой «велети в кумыках в большом чину быть», ему, «а не иному». В ответ на эту просьбу в 1623 г. Ильдару из Москвы была дана жалованная грамота на шамхальство с большой государственной печатью.
Тарковские ханы предпочитали в этот период русскую военную помощь персидской, к которой обращались только тогда, когда терские воеводы не могли удовлетворить их просьб о ратных людях.
В 1626—1627 гг. шамхал Ильдар обратился в Москву с новой просьбой — дать ему годовое жалованье, которое и было ему назначено наравне с жалованьем тогдашнего старшего кабардинского князя Куденета Канбулатовича—100 руб. денег и 50 четей хлеба. Обращение Ильдара в Москву было продиктовано, в частности, и надеждой занять таким путем более независимое от шаха Аббаса положение.
Планы шаха укрепиться на Северном Кавказе заставили русское правительство изменить политике поддержки Тарков против Эндрея. В июле 1631 г. сын Султан-Магомеда Айде- мир, вызванный в Терский город, шертовал Михаилу Федоровичу «за своего отца, за себя, за дядю, за братьев и за своих узденей».
Около 1635 г. по просьбе Султан-Магомеда на Сунже, т. е. именно там, где шах предполагал поставить город и где ранее, в XVI в., не раз ставились русские города, был возобновлен русский острожек. Планы шаха и на этот раз были расстроены.
Смерть Ильдара в 1635 г. снова поставила вопрос о шамхальстве. Кумыкские люди давали шамхальство Султан-Магомеду; тот «за старостью» поменялся со своим старшим сыном Айдемиром, вместе с которым ездил в Казикумух, «где дается по их обычаям шевкальство», одаривал всех узденей лошадьми, быками и овцами. Айдемира признала шамхалом «вся Кумыцкая земля».
В это время шах Ирана сделал попытку выдвинуть на шамхальство своего ставленника, владельца Сурхай Гиреева, племянника шамхала Ильдара. Шах старался заручиться в этом деле поддержкой московского царя. В 1637 г. в Москву прибыло посольство от Сурхая Гиреева с официальным челобитьем шамхальства, которое подкреплялось грамотой шаха Сефи к царю, сообщившей, что шах «учинил» Сурхая шамхалом. В Москве не поддержали ходатайства шаха и, одарив Сурхаева посла обычными подарками, отпустили его домой с грамотой к Сурхаю, в которой царь принимал его в «холопство», но где ничего не говорилось о пожаловании шамхальства. Вопреки желанию шаха шамхалом оставался Айдемир — до своей смерти в 1641 г. в неудачном походе на кабардинцев.
В 1642 г. Сурхай возобновил в Москве челобитье об утверждении его шамхалом и получил, подобно Ильдару, жалованную грамоту московского царя на шамхальское достоинство.
В первой половине XVII в. укрепились отношения с Россией в уцмийстве, владениях Аварии, Казпкумухе и др. И здесь, как и в кумыкских владениях, эти связи обусловливались не только интересами торговли, но и стремлением найти в Москве поддержку против угрозы турецких нашествий.
Впервые уцмий Рустем-хан вступил в сношения с воеводами Терского города в 1616 г., т. е. в год опустошительной карательной экспедиции шаха Аббаса в Грузию. Из Москвы было послано распоряжение взять у Рустем-хана аманата в Терский город и привести к шерти. Переговоры об этом велись в 1617—1618 гг., когда уцмий поднял вопрос о своих торговых людях, о том, чтобы им на Тереке не чинили никаких препятствий, обещая в свою очередь оберегать при проезде через его землю государственных торговых людей. Переговоры, по-видимому, не дали тогда результатов и возобновились снова по инициативе уцмия лишь в 1625 г. Оформление отношений зависимости принесением шерти состоялось в начале 1630 г.
Между тем иранский шах задумал организовать поход Шагин Гирея с персидской ратью через Северный Кавказ в Крым. К этому походу шах Ирана старался привлечь, конечно безуспешно, и русские войска, находившиеся в Прикавказье, и владетелей Дагестана и Северного Кавказа. Из разных источников были получены сведения, что Шагин Гирею поручено шахом ставить крепость на Сунже, на Елецком городище и на Татартупе, на пути к Дарьялу. На требование шаха выдать двести топоров, «чем лес сечь, да двухсот телег с лошадьми и с людьми для городового ставленья» уцмий ответил отказом л послал в Москву посла Шамсея с грамотой о том, что «учинился холопом» русскому государю и готов на государеву службу. Предложение подданства было в Москве принято под условием принесения шерти и выдачи аманатов в Терский город. Шерть была принесена уцмием в 1633 г. на кайтагской земле, в Башлах, так как ехать в Терский город уцмий отказался. Ему были переданы богатые подарки. В текст шертной записи, составленной в Москве, было включено условие: «Мне, уцмию, и детям моим, и братьям, и дядьям, и племянникам и всем моим моего уцмийства владения людям к турскому султану, и в Крым, и в Ногай, и в некоторые ‘государства от царского величества не отступати».
В 1635 г. в Москву прибыл новый посол — брат уцмия, «в третьем колене» Бодархан-бек с подтверждением подданства.
Одновременно с уцмием обращались в Терский город нуцалы Аварии. И в 1616 г. там были аманаты аварского нуцала. Об укреплении взаимоотношений Аварии с Россией говорит и тот факт, что в 1618 г. по челобитью нуцала ратные люди ходили походом в Чечено-Ингушетию.
В 1630 г. аварский нуцал вновь дал в Терский город в аманаты своего сына и прислал грамотой подтверждение своей верности, обещал не пропускать Шагин Гирея и просил возобновить постройку города на Койсу, обещая при этом прийти на помощь.
Аналогичными были и взаимоотношения большинства других владетелей Дагестана с Россией. Феодальные владетели Дагестана обращались к России в основном с просьбой оказать им помощь, принять их в русское подданство и с предложением своих услуг. Все укреплявшиеся взаимоотношения Дагестана с Россией привели к тому, что в первой половине XVII в. в подданство России вошли кумыкские владетели Гирей, Султан-Магомед, эндреевский Казаналп, кафыркумухский Багомет, эрпелинский Будайчеев, карабудахкентский Сурхай, казикумухский Алибек, кайтагский Рустем-хан, аварский Нуцал и многие другие.
Установившиеся связи имели большое значение и для Кавказа и для Руси. В первые десятилетия XVII в., в период особенно сильной агрессии персидского государства на Кавказе, русско-кавказские связи помешали укреплению шахов на Северном Кавказе и планам постройки здесь шахских крепостей. Кроме того, укрепление русско-кавказских связей, особенно во второй половине XVII в., имело большое значение в плане русско-крымских и русско-турецких отношений.
Как и в XVI в., агрессия Турции и Крыма по отношению к Северному Кавказу в XVII в. не прекращалась. На разных этапах она преследовала различные цели и наталкивалась на укрепившееся здесь с XVI в. влияние русского государства.
В течение первых четырех десятилетий XVII в. предполагалось несколько походов крымских войск через Северный Кавказ. Но ни один из намеченных походов не состоялся. Наличие сильного гарнизона в Терском городе, русский контроль над северокавказским путем, подданство России кабардинских и дагестанских земель не позволяли крымцам совершать поход «через Османовщину», и им всякий раз приходилось переправляться в Синоп на турецких транспортных судах.
Война Русского государства с Турцией и Крымом в последние десятилетия XVII в. обостряет положение на Северном Кавказе: Турция и Крым стремятся направить против России часть местных сил, применяя методы религиозной пропаганды. Крымско-турецкие агенты на Северном Кавказе широко пользовались лозунгом «священной войны» против «неверных», «гяуров», но эта пропаганда не имела в Дагестане успеха. Недаром некоторые дагестанские правители не только стояли на резко враждебных по отношению к Турции позициях, но и принимали активное участие в войне на стороне России. Во время русско-турецкой войны 1677—1678 гг. в боях под Чигирином в составе русских войск принимал участие и отряд кафыркумухского Асланбека.
и прикладное искусство
В XVI—XVII вв. в связи с усилением международных связей, ростом торговли и обмена усиливается разновременность эволюции селений и жилищ. В сложной и противоречивой картине этой эволюции можно все же заметить, как все более влиятельными и сильными оказываются селения, расположенные на выгодных позициях скрещения старых исторических дорог. Сюда раньше проникают извне новые приемы домостроения, жилища здесь модернизируются, в то время как недоступные старинные «орлиные гнезда», расположенные часто в непосредственной к ним близости, как и целые тупиковые районы, лежащие в стороне от торговых путей, сохраняют в неприкосновенности весь свой средневековый облик.
Вместо индивидуальной защиты изолированных крепостных комплексов и домов-крепостей, характерной для предшествующей эпохи, дагестанцы в отличие от остальных народов Кавказа все большее значение придают обороне в целоми оборонительная система селений становится единой и замкнутой.
В условиях тесной застройки отдельное жилище в эксплуатационном отношении неизбежно и крепко связано с соседними: крыша нижерасположенного соседа является единственным «двором» для вышележащего дома.
Дагестанское «классическое» селение с его многоэтажной капитальной и почти сплошной застройкой представляет собой достаточно сложный инженерно-строительный -комплекс, требующий учета многих вопросов и большого опыта возведения. Место для селения выбиралось предпочтительно на солнечном, южном склоне. Оно должно было быть обеспеченным достаточным количеством пригодной воды, обычно родниковой.
Вместе с тем такое селение представляет собою и архитектурный феномен исключительной выразительности: точно гигантская друза кристаллов, застройка лепится по склону сплошным амфитеатром по 20, 30 и более ярусов домов в полной композиционной слитности.
Скученное расположение на крутизне имело, однако, и свои отрицательные стороны, несомненно осознававшиеся в ту эпоху. Основные из них — легкость распространения инфекций и пожаров. Сохранилось множество рассказов об опустошительных эпидемиях и пожарах, в результате которых селения выгорали дотла, после чего возрождались уже на новом месте. Однако все прочие требования приносились в жертву соображениям военной безопасности.
Вырубка лесов и расширение сельскохозяйственных угодий, рост аулов приводят к тому, что в эту примерно эпоху крупные селения начинают выделять специальные отселки для обслуживания и охраны мест приложения труда, для освоения новых земель. Теперь наблюдается процесс, обратный процессу слияния и укрепления селений, происходившему в прежнюю эпоху.
Планировка и застройка таких дочерних поселений повторяют приемы основных аулов и в архитектурном отношении они ничем, кроме величины, не отличаются. Однако в них уже совсем нет тухумных подразделений. Это чисто соседские поселения. На первых порах своего существования они связаны с основным селением административно и хозяйственно.
Кроме того, с распространением отгонной формы скотоводства крупные селения вынуждены строить сооружения для временного проживания на летних и зимних пастбищах. Эти сооружения для жилья и содержания скота имеют примитивное устройство и, возможно, сохраняют — особенно на эйлагах — некоторые реликтовые черты жилища первобытной эпохи.
Тесные хозяйственные связи перенаселенных гор с предгорными и плоскостными районами зимнего выпаса скота ведут к постепенному их освоению горцами. Процесс этот заметен еще с послемонгольской эпохи, а к XVI—XVII вв. горцами уже были созданы на плоскости крупные аулы — Старый Чир- кей и др. Все другие виды жилища здесь были вытеснены горской саклей.
В течение XVI—XVII вв. жилой дом также претерпевает существенные изменения. Отражая этапы дробления семьи,

однокамерное жилище древности начинает также постепенно дробиться на отдельные помещения. Во многих случаях древнее жилое помещение надстраивается точно таким же вторым помещением для отпочковавшейся части семьи.
К старому жилому помещению начинают пристраивать еще одно — новое. Оно существенно отличается от старого:имеет парадный характер горницы, оборудуется новым типом пристенного очага и выполняет функции помещения для гостей. В некоторых местах оно служит летним жилым помещением.
У кумыков, подобно кабардинцам и черкесам, это помещение— кунацкая (кьонах-уьй)—занимает часто даже отдельное строение.
Новый пристенный очаг появляется и в «старой» комнате. Он имеет дымарь-колпак и дымоход в стене. Обычно очаг делается глино-плетневым на деревянном каркасе, но в некоторых местах, например в сел. Кубачи, топочная камера делается каменной и украшается иногда прекрасной резьбой. На западных окраинах Дагестана — у андийцев, годоберинов — пристенный очаг в «старой» жилой комнате делается громадных размеров с дымарем сложной пластической формы с нишками, полочками и пр. Здесь очаг становится главным композиционным элементом жилого помещения. У лезгин предгорья получает распространение угловой камин, а в жилищах даргинцев, у кумыков—своеобразный очаг в особом отсеке. Во всем остальном «старая» комната сохраняет традиционное убранство.
Наряду с увеличением количества служебных н жилых помещений существенно уменьшаются размеры самих комнат. Вместо прежних монументальных залов площадью до 100 кв. м и даже больше комнаты делаются все меньше и меньше.
Однако длительный процесс сегментации однокамерного жилища происходит далеко не одновременно. В глубине гор он затягивается вплоть до XX в. В передовых же селениях, например у кубачинцев, уже в более раннее, вероятно, время получает распространение многокомнатное жилище.
К многокомнатному жилищу теперь уже прочно присоединяются службы: хлева, сараи для сена, конюшни, кладовые, навесы для топлива и инвентаря занимают в доме определенное место, варьируясь в зависимости от тесноты застройки, особенностей рельефа и хозяйства.
Самой распространенной в Дагестане, как и на всем Кавказе, становится двухэтажная схема: наверху — жилье, под ним — службы. При большой тесноте застройки встречается многоэтажное, вплоть до шести этажей, расположение, например наверху два этажа жилых, под ними сено, в нижних этажах— конюшни и хлева.
Возникновение многокомнатного жилища с ассортиментом

служб отчетливо отражает быстрый рост ‘классовой дифференциации в сельской общине. Причем количество помещений соответствует, конечно, положению и богатству владельца. Именно через классовую верхушку с ее международными связями и происходит проникновение в горы новых, заимствованных приемов домостроения.
Влияние новых связей сказывается на всех сторонах архитектуры, начиная с самого факта заимствования представителями классовой верхушки чужих архитектурных обычаев в устройстве жилища и кончая новыми типами сооружений. Убранство новой парадной комнаты — пристенный очаг, полки с парадной посудой, ниши, крытые паласами и коврами, пары и прочие атрибуты, свойственные другим народам Востока, — все это свидетельствует об иноземном влиянии. «Восточный вкус» особенно ощутим в южных и приморских территориях. Здесь в ходу, например, решетчатые подъемные окна «шебеке».
В отличие от жилья предыдущих эпох, простых снаружи, но своеобразных внутри, теперь все большее значение придается фасаду. Здания членятся поэтажно поясками, иногда покрытыми орнаментальной резьбой, в окнах и дверях делаются резные каменные или деревянные обрамления, а на не-

которых богатых фасадах сплошь все ряды камней покрываются резьбой или узором штрихов.
Исключительное место в культурном достижении ‘народов Дагестана в XVI—XVII вв. занимает прикладное искусство. О высоком мастерстве народов Дагестана в резьбе по камню и дереву, кости, художественной чеканке и обработке металлов и т. п. свидетельствуют сохранившиеся до наших дней предметы декоративно-прикладного искусства: каменные и деревянные конструкции и детали декоративного значения в зданиях (Корода, Г’инта, Кумух, Шиназ и др.), украшенные богатым растительным орнаментом со стилизованными изображениями птиц, животных, человеческих фигур, спиралей (деревянные ларп-цагуры, сундуки, домашняя утварь и т. п.),

литые бронзовые котлы и предметы вооружения (Кубани, Харбук и др.), художественная обработка шерсти (лезгинские и табасаранские ковры), балхарская и сулевкентская керамика и т. д.
Усилившиеся торгово-экономические связи между отдельными естественно-географическими зонами способствовали взаимопроникновению элементов культуры различных народов Дагестана и возникновению художественных школ или единого стиля в декоративно-прикладном и художественном ремесле. Вместе с тем сохраняются специфические черты, обусловленные местными условиями и художественными традициями.
В устном поэтическом творчестве народов Дагестана нашли свое отражение самые разнообразные стороны жизни горцев: политические события, борьба с иноземными захватчиками, с насилием местных феодалов и т. п.
Наиболее известным произведением устнопоэтического творчества народов Дагестана является песня о Хочбаре Гидатлинском, возникшая в конце XVII в. Хочбар — легендарный герой Гидатлинского общества, возглавивший борьбу народов Гидатля против насилия и бесчинства хунзахских ханов.
Высокую оценку этому памятнику дагестанского фольклора дал Л. Н. Толстой, назвавший песню «удивительной». Широко распространены в Дагестане были в то время семенно- обрядовые и свадебные песни.
Свадьба в Дагестане была праздником веселья и вместе с тем сложным драматическим ритуалом, в котором наряду с мусульманскими мотивами продолжали существовать древние языческие обряды, отражались элементы патриархально- родового строя — купля-продажа невесты, умыкание и др.
Распространенными были и похоронные обрядовые песни- плачи и причитания, хотя похороны совершались на основе мусульманской обрядности. Почетное место занимала в фольклоре народов Дагестана героическая песня.
Не меньшую роль в быту народов Дагестана играли другие фольклорные жанры — пословицы, поговорки, загадки, анекдоты, отражающие быт и традиции народа, думы и чаяния сотен поколений.
Народы Дагестана издавна создавали замечательные образцы сказочного творчества: здесь и волшебные и бытовые сказки и сказки о животных. В эпических песнях и исторических преданиях нашла отражение борьба народов Дагестана против ирано-турецких захватчиков. Особенно были распространены предания о шахе Аббасе.
Развитие науки
Важным шагом на пути развития культуры было образование центров научной и философской мысли в Дагестане, таких, как Дербент, Кумух, Согратль, Усиша, Муги, и возникновение письменной литературы. Еще задолго до XVI—XVII вв. в Дагестане распространилась арабская письменность и арабская литература. В XVI и особенно в XVII в. проникновение арабской культуры становится интенсивным, с определенностью вырисовывается, по образному выражению крупнейшего ориенталиста Востока, И. Ю. Крачковского, «своеобразный Ренессанс» средневековой арабистики, в то время как на Востоке творческий период общеарабской литературы давно закончился.
В то время в Дагестане вырабатывалась также особая форма арабской письменности, которая облегчила перевод с арабского языка на языки народов Дагестана. Дагестанские ученые выработали своеобразную систему пояснительных знаков, которые облегчали перевод арабских текстов на языки Дагестана; следов эгой системы до сих пор не обнаружено ни на арабском Востоке, ни за его пределами. У всех народов Дагестана это письмо было известно под названием аджам. До нас дошли комментарии известного дагестанского арабиста Тайгиба (1563—1668), написанные по-аджаму на полях рукописи арабской книги «ал-Вафийе шарх-аш-шафийе». В 1639 г. известный ученый-арабист Шаабан, сын Исмаила из аула Обода, возвратившись с Ближнего Востока, где он учил
ся долгие годы, открыл в Аварии арабскую школу. Такие же школы открылись и в других крупных аулах Дагестана. Получив образование в примечетских школах, дагестанцы выезжали на Восток для дальнейшей учебы в университетах.
Конечно, арабский язык и литература не были доступны основной массе населения Дагестана. Преподавание в примечетских школах носило формальный характер и было направлено на механическое заучивание алфавита и догматов Корана. Все трудовое население Дагестана не знало ни письменности, ни арабского языка и поэтому не понимало содержания читаемого текста Корана.
Дагестанские ученые занимались переписыванием и распространением средневековых арабских книг по истории, логике, математике, астрономии. Многие дагестанские ученые владели не только арабским языком, но и усвоили все традиционные приемы арабской классической поэзии и использовали их в своей литературной практике.
Из среды дагестанцев вышла целая плеяда ученых-арабистов, известных не только на Кавказе, но и на всем мусульманском Востоке. Выдающимися представителями этой плеяды считаются Мухаммед Кудутлинский, Дамадан Ободинский, Абдул-Басир (из сел. Ахар), Омар (из сел. Камахали), Али- Риза (из сел. Согратль), Омар (из сел. Дусрах), Курбан (из сел. Танта), Мухаммед (из сел. Кули), Мухаммед (из сел. Ру- гуджа), Нажмуддин (из сел. Кумух) и др. Круг их разнообразных интересов выходил далеко за рамки средневековой схоластики.
Так, Мухаммед Кудутлинский прославился далеко за пределами Дагестана своими трактатами по арабской филологии, он изучил риторику, логику, философию и арабскую юриспруденцию, принимал деятельное участие в идейно-политической борьбе, развернувшейся в Дагестане между сторонниками шариата и адата.
Арабские ученые восторгались Кудутлинским, его обширным кругозором и стремлением познать арабскую науку. Автор библиографического словаря Мухаммед ибн Али аш- Шаукани писал: «Я не видал похожего на него в умении хорошо выражаться, пользоваться чистым языком, избегать в беседе вульгаризмов, прекрасно произносить речь. При слушании его слов мной овладел такой восторг и радость, что даже дрожь пошла по мне».
Крупнейшим ученым-энциклопедистом был Дамадан Мугинский (ум. в 1708 г.) —один из зачинателей естественно- математических, астрономических и медицинских наук в Дагестане. Наблюдая за небесными телами при помощи сконструированных им астрономических приборов, Дамадан Мугинский объяснял движение солнца, луны и причины их затмения, утверждая, что мир существует и развивается по естественным законам. Дамадан Мугинский стоял На позициях «двойственности познания истины», т. е. не отрицал способность человеческого разума проникнуть в тайны природы, подчеркивая также невозможность полного познания божественной истины. Труды и наблюдения ученого сыграли большую роль в пропаганде естественных знаний и в развитии философской и общественно-политической мысли народов Дагестана.
Ознакомившись с трудами арабских медиков, Дамадан Мугинский составил краткий справочник лекарств и способов их изготовления из растений, неорганических веществ и животных организмов. Этот справочник был переведен на языки народов Дагестана и получил широкую известность под названием «Дамадан».
Медицина вообще занимала важное место в истории культуры народов Дагестана XVI—XVII вв. Ее достижения основывались на многовековом опыте лечения болезней лекарственными травами. Не обладая теоретическими знаниями, народные хакимы (врачеватели) показывали высокое искусство в лечении переломов костей и ран. Костоправы знали различные приемы лечения, в переломах широко применяли методы гипсования, выработанные опытом многих поколений горцев, поэтому почти во всех селениях Дагестана можно было найти хороших костоправов и врачевателей. Турецкий путешественник Эвлия Челеби в своем описании сел. Эндрей пишет, что в нем наряду со многими учеными и поэтами, считавшимися «знатоками множества наук», имеются бесчисленные хирурги и врачи, которые «пользуются достаточной известностью», гуджп), Нажмуддин (из сел. Кумух) и др.
[1] «Халклавчи» образовано от слов халк — «надзор» и лавай — «высший, превосходный».[2] Архив К- Маркса и Ф. Энгельса, т. VII, стр. 206.[3] Там же.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII